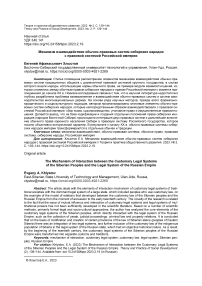Механизм взаимодействия обычно-правовых систем сибирских народов с правовой системой Российской империи
Автор: Хлыстов Евгений Афанасьевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению элементов механизма взаимодействия обычно-правовых систем традиционных обществ с доминантной правовой системой крупного государства, в состав которого вошли народы, использующие нормы обычного права, на примере модели взаимоотношений, которые сложились между обычным правом сибирских народов и правом Российской империи с момента присоединения до начала ХХ в. Новизна исследования связана с тем, что в научной литературе недостаточно глубоко разработана проблема взаимовлияния и взаимодействия обычно-правовых систем и систем законодательства многонациональных держав. На основе ряда научных методов, прежде всего формальноюридического и социокультурного подходов, автором проанализированы ключевые элементы обычно-правовых систем сибирских народов, которые непосредственным образом взаимодействовали с правовой системой Российской империи: сбор ясака, судопроизводство, уголовное право и имущественные правоотношения. Делается вывод, что на базе кодификации и создания отдельных положений права сибирских инородцев (народов Восточной Сибири) происходили интеграция двух правовых систем и дальнейшее включение обычного права коренного населения Сибири в правовую систему Российского государства, которое носило объективно-исторический характер. В результате к началу ХХ в. обычно-правовые системы сибирских народов империи трансформируются в отдельные обычаи и традиции.
Механизм взаимодействия, обычно-правовая система, обычное право, правовая система, сибирские народы, российская империя
Короткий адрес: https://sciup.org/149142400
IDR: 149142400 | УДК: 340.141 | DOI: 10.24158/tipor.2023.2.19
Текст научной статьи Механизм взаимодействия обычно-правовых систем сибирских народов с правовой системой Российской империи
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Улан-Удэ, Россия, ,
East-Siberian State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia, ,
Правовая система общества обладает многообразием проявлений и сложностью структуры, что влечет за собой и неоднозначность ее исследования. Правовая система всегда конкретна, имеет контуры и формы в рамках каждого отдельного исторического периода общественного развития.
Сравнительные исследования разнохарактерных по содержанию социально-нормативных систем, к которым относятся законодательство Российской империи и обычное право сибирских народов, на данном этапе развития юридической компаративистики представляются актуальными в силу недостаточной изученности темы. Особенно важным является механизм взаимовлияния обычного права сибирских народов и правовой системы Российской империи в дореволюционный период. В основу был положен формально-юридический метод, с помощью которого изучалось соотношение формы и содержания законов России и обычного права сибирских этносов, выступающее региональной (местной) подсистемой традиционного общества, отличающейся от современного обычного права, и имеющее естественную природу происхождения, будучи частью культуры (социокультурный подход) (Небратенко, 2010: 52).
Считается, что обычно-правовые системы предшествуют становлению собственно правовой системы, по содержанию с точки зрения социокультурного подхода они богаче, чем нормативные характеристики системы законодательства и права в целом1. Так, в обычно-правовую систему сибирских народов в рамках существования в имперской системе входили оставшиеся мононормы, обычаи и уже затем собственно нормы обычного права, представленные прежде всего разными сборниками и уложениями. Одним из первых стало Селенгинское уложение 1775 г., которое описано бурятскими учеными (Цибиков, 1970).
Следует признать, что до сих пор отсутствуют разработанная концепция включения обычно-правовых систем в государственно организованное право и какая-либо методология оценки эффективности такого рода включения, в том числе на материалах истории традиционных обществ Сибири.
Убедительным представляется вывод И.Б. Ломакиной, что обычно-правовые системы традиционных обществ, к которым и относились сибирские народы, становятся подсистемой государственно-правовой системы2. После этого обычно-правовая система становится собственно обычным правом, включаемым в систему законодательства в виде отдельных обычно-правовых институтов и правовых обычаев (Небратенко, 2009: 75).
Системы обычного права сибирских этносов в сравнительно-правовом ключе изучены в докторской диссертации В.В. Наумкиной в 2010 г.3 Основное внимание исследователь уделила проблемам унификации обычного права кочевых народов Восточной Сибири в XIX в. В.В. Наумкина справедливо рассматривает данную модель права как системное образование, поскольку оно охватывает не только сферу правотворчества, но и все области управления и жизнедеятельности народа (Наумкина, 2010: 309). Нужно отметить и документальные источники, среди которых следует выделить сборник «Обычное право народов Сибири (буряты, якуты, эвенки, алтайцы, шорцы)»4, содержащий ряд вводных статей, анализирующих обычно-правовые системы инородцев края.
Большинство региональных исследований акцентируют внимание либо на изучении имперской правовой политики России, либо на обычно-правовых системах сибирских народов и, как правило, в отдельности друг от друга. В основном постулируется мысль, что именно российская правовая система главным образом повлияла на правовые институты коренного населения Сибири в дореволюционный период. Соответственно, сибирские народы, в свою очередь, были «вынуждены приспособиться к принципиально новым для них политико-правовым, социальным, экономическим и культурным условиям» (Зуев и др., 2017: 3).
Современные исследователи истории права активно изучают различные модели обычноправовых систем России как в теоретическом ракурсе, так и в историко-правовом, их включение в правовую систему страны в рамках расширения идеологии правового плюрализма, основанной на методологии юридической этнологии (этнологии права) (Обычное право России…, 2019).
Правовая система является частью духовной и этнической культуры того или иного народа. Здесь важно отметить, что процесс взаимодействия с российской правовой системой зависел в первую очередь от уровня общественного развития сибирского населения, которое в абсолютном большинстве находилось на уровне родоплеменных отношений, формирования народностей уже в рамках существования в пределах Российской империи.
Кодификация права и дальнейшее развитие правовой системы в России связаны с разработкой и утверждением Соборного уложения, которое было принято в январе 1649 г. на Земском соборе страны. Окончательно институты отечественной правовой системы сложились только в 1860-е гг., когда была проведена систематизация права и утверждены судебные уставы, ставшие основой современного российского судопроизводства.
Во второй половине XVII в. начинается процесс взаимодействия, на первом этапе речь шла об обособленном развитии правовых институтов сибирских народов и империи. Точки соприкосновения касались главным образом налоговых правоотношений, введения ясачной системы для коренных народов Сибири. В Соборном уложении 1649 г. была утверждена основа правовой политики России по отношению к сибирским народам, т. е. уже тогда были юридически закреплены признание обычаев ясачных народностей нового региона и возможность их применения1.
Так, процедура шертования (жалованное слово, шертовальные записи), имея значение приведения в российское подданство, фактически представляла собой договор публично-правового характера, по которому сибирские народы обязывались платить ясак в обмен на возможность жить на своей исконной территории под защитой Российского государства (Зуев и др., 2017: 272). Это свидетельствовало о неравноправности данного договора, т. е. фактически приводило к навязыванию сибирским иноземцам стандартов политико-правовой жизни, принятой русской администрацией. При этом установленный ясак на данном этапе рассматривался как своего рода «дань», а уже намного позже, начиная с 1820-х гг., выступал феодальной рентой для инородческих сословий Сибири.
Так же рано у сибирских народов появляется необходимость обращения к возможностям русского судебного процесса. В Сибирском приказе второй половины XVII в. сохранилось большое количество жалоб со стороны местного населения, в том числе родовых начальников. Так, по свидетельству С.А. Токарева (1940: 83), только в Якутском уезде зафиксировано более 200 судебных дел, связанных с представителями якутского народа, которые обращались за судебной помощью в местные суды. Именно реально-юридическая процедура обращения представителей коренного населения Сибири в русские судебные инстанции и соответствующая практика решения этих дел на основе соответствующих «законов предков» объективно способствовали формированию обычного права ( Конев , 2004: 181).
В России начиная с правления Петра Великого происходит становление совершенно новой правовой культуры, основанной именно на системе законодательства, состоящей главным образом из решений, постановлений, указов и прочих установлений российского императора. Только с этого времени, т. е. с начала XVIII в., активизировалась правовая русификация Сибири, формировалась ясачная система (процедура шертования).
Исследователи отмечают большое количество нормативных актов, посвященных сбору ясака с народностей Сибири, что свидетельствовало о большой заинтересованности в обеспечении пушниной (Дамешек и др., 2013: 135). Можно выделить именной указ царя от 26 декабря 1695 г., который был дан Сибирскому приказу. Уже само название документа («О нечинении казней и пыток Сибирским ясачным инородцам ни по каким делам без доклада государям, об охранении их от обид и налогов и притеснений, о посылке приказчиков для ясачного сбора людей добрых по выбору градскому, и о наблюдении, чтобы они ясашных людей не грабили, запрещенными товарами не торговали, и вина не курили и не продавали») говорит о том, что русская администрация старалась бережно относиться к сибирским народам, империей была выбрана стратегия сотрудничества с их правовыми институтами.
В период присоединения и в течение XVIII в. народности сибирских земель в лице их родоплеменной элиты, адаптируясь к политико-правовой системе империи, использовали в основном те нормативы, которые требовались в их коммуникациях с русской администрацией. Во внутренней жизни, особенно в семейно-брачных отношениях, ведении разных промыслов, скотоводстве, предпочтение отдавалась нормам обычного права сибирских этносов, которые были признаны и на государственном уровне.
Здесь нужно отметить, что до присоединения Сибири к России сибирские этносы не владели письменностью, т. е. не знали писаного права, да и вообще права. Речь шла только о соци-онормативных системах – различных обычаях и традициях (мононормах), которые последовательно передавались от старших поколений последующим. Только в составе Российской империи начинаются целенаправленная запись этих обычаев, их систематизация в разные сборники, например «Свод степных законов кочевых инородцев Восточной Сибири» 1841 г. Однако важно, что в результате свод не был утвержден как законодательный источник. Это было связано с тем, что российское правительство к тому времени уже старалось ввести нормы обычного права в систему общероссийского законодательства, а не разделять систему права империи на части1.
Обычай как источник права в отношении сибирских народов, наряду с политикой унификации, т. е. кодификации обычно-правовых систем, был признан вместе с другими источниками права, что и было отмечено в одном из изданий Свода законов Российской империи2. В связи с этим считаем неприемлемым мнение западных историков о том, что имперская политика по отношению к сибирским народам носила характер сплошной ассимиляции, при которых национальная идентичность инородцев региона на протяжении долгого времени исчезала, включая системы этнического обычного права (Wood, 2011: 246).
Здесь мы видим, что обе сравниваемые правовые системы постепенно сближались, превращаясь в единую российскую правовую систему, которая изначально обладала многонациональным и многоукладным характером, при этом на пути исторического развития испытывала влияние западного европейского права, особенно романо-германской семьи. В то же время еще дореволюционные правоведы подчеркивали своеобразие российской правовой системы, в которой в отличие от западной имелась широкая сфера применения обычного права, включая право национальных районов Сибири и Дальнего Востока (Шершеневич, 1911: 424, 457).
Однако особенности управления и быта сибирских народов накладывали отпечаток на своеобразие различных правовых институтов, прежде всего института правосудия. Так, неслучайно Устав об управлении инородцев 1822 г. несколько законсервировал родовые отношения у сибирских народов, отдав функции правосудия родовым начальникам, была воссоздана патриархальная организация единоличного суда. У представителей якутских инородцев в рамках оседлых общин (наслегов) действие инородческого суда сохранялось вплоть до установления советской власти в 1917 г. (Федоров, 2019: 42).
Также важно отметить, что вплоть до Устава об управлении инородцев 1822 г. обычное право сибирских народов не представляло собой единой системы, оно было партикулярным, разделенным на правовые акты разных родов и этнических групп, например Положение 1808 г. по управлению внутренними делами и судопроизводству хоринских и селенгинских бурят (Тумурова, 2008: 93), что и стало одной из причин унификации обычного права. Именно бессистемность и сбивчивость многих норм обычного права сибирских инородцев обусловили сбор сведений об обычноправовых системах региона, их обобщении и дальнейшей кодификации в различных сборниках.
В связи со сказанным можно утверждать, что правовые системы сибирских народов начиная с момента присоединения их территорий к России приобретают дуалистический характер. Сохранялись, с одной стороны, обычно-правовая система, основанная на догосударственных нормативных установлениях, с другой – правовая государственная культура российской нации. Данный дуализм существенно влиял на развитие обычного права сибирских народов, например уже к концу XVIII в. из обычаев бурят выделяются институты уголовного права, в частности развивается понятие «андза», под которым подразумевалось наказание за наиболее тяжкие преступления, прежде всего убийство3. Такая ситуация была обусловлена тем, что российское законодательство использовалось в случаях, если нормы обычного права отставали от развития «цивилизации».
Уголовные нормы империи активно взаимодействовали с нормами обычно-уголовного права сибирских инородцев. Если по Уставу об управлении инородцев 1822 г. уголовные дела не поручались словесному суду (расправе), то уже к концу первой половины XIX в. в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных было внесено важное изменение, что если представители инородцев Сибири, которые относились к кочующим или бродячим, совершали небольшие преступления, то они судились по обычно-правовым традициям, но при этом наказания назначались по общим законам империи (ст. 173).
По мере интеграции коренных народов Сибири в правовую систему империи проходила и трансформация их нормативно-регулятивной сферы. Например, в XIX в. у бурятов и якутов со-ционормативная практика была представлена не коллективистскими отношениями, а уже част-нособственническими4. В последнем случае речь идет о том, в частности, что результаты облавной охоты стали уже не коллективной собственностью, а имуществом отдельной семьи. Это связано с тем, что в традиционном обществе на данном этапе накопились имущественные социально-классовые противоречия.
Взаимодействие между правовыми системами коснулись и сферы налогообложения инородцев Сибири. Начиная с Устава об управлении инородцев 1822 г., например, по Уставу о земских повинностях, Уставу о податях вводятся существенные изменения. В частности, появляются личные и денежные налоги в зависимости от категории инородцев и их материального положения, т. е. наблюдалось приближение правового статуса сибирских народов к статусу различных сословий империи.
Несмотря на активную политику русификации и унификации права сибирских инородцев, даже в конце XIX в. российское правительство учитывало интересы и обычаи местного населения. Например, в ст. 48 временного положения «Об устройстве общественного управления и суда кочевых инородцев Забайкальской области» 1898 г. был сохранен так называемый инородческий суд, который разбирал дела по местным обычаям, правда, как и прежде, это относилось не ко всем судебным делам, которые касались общих оснований привлечения к ответственности, в частности за преступления против государства. Однако уже в 1906 г. юридические функции родовых начальников были упразднены. В Положение об инородцах 1892 г. были внесены новые нормы. Согласно им народы Забайкалья были удалены из кочевых народов, которые судились с помощью инородческого суда, основанного на нормах обычного права (Дамешек и др., 2020: 265).
В результате в начале ХХ в. взаимоотношения между обычно-правовой системой сибирских народов и российским законодательством перешли в стадию трансформации обычно-правовых институтов, их аккультурации и включения в систему российского права. Это было в первую очередь связано и с русификаторской политикой российского самодержавия, и с изменениями в общественном устройстве кочевых инородцев Сибири, которые практически полностью перешли к оседлому образу жизни. Включение обычного права сибирских инородцев в систему законодательства империи также связано с внутренними противоречиями закона и обычного права, в борьбе между ними в итоге побеждает закон как основной источник права.
Список литературы Механизм взаимодействия обычно-правовых систем сибирских народов с правовой системой Российской империи
- Дамешек Л.М., Жалсанова Б.Ц., Курас Л.В. Бурятский этнос в имперской системе власти (XIX - начало ХХ в.): монография. Иркутск, 2020. 740 с.
- Дамешек Л.М., Жалсанова Б.Ц., Курас Л.В. История органов местного самоуправления бурят в XIX - начале XX в.: монография. Иркутск, 2013. 303 с.
- Зуев А.С., Игнаткин П.С., Слугина В.А. Под сенью двуглавого орла: инкорпорация народов Сибири в Российское государство в конце XVI - начале XVIII в. Новосибирск, 2017. 444 с.
- Конев А.Ю. Народы Северо-Западной Сибири в XIX столетии: обычное право и имперское законодательство // Отечественная история. 2004. № 2. С. 180-185.
- Наумкина В.В. Правовое и социокультурное начало в обычном праве кочевых народов Восточной Сибири // Актуальные вопросы современной науки. 2010. № 11. С. 307-313.
- Небратенко Г.Г. Формально-юридический анализ обычно-правовой системы // Юристъ-правоведъ. 2010. № 2. С. 52-56.
- Небратенко Г.Г. Обычно-правовая система: теоретико-методологический анализ // Юристъ-Правоведъ. 2009. № 1. С. 74-79.
- Обычное право России: теоретико-правовой и историко-правовой аспекты: монография / под ред. Р.Л. Хачатурова. М., 2019. 468 с.
- Токарев С.А. Очерк истории якутского народа. М., 1940. 247 с.
- Тумурова А.Т. Обычное право бурят // Российское правосудие. 2008. № 3. С. 93-99.
- Федоров Г.С. К вопросу формирования «инородческого суда» народа саха // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Сер.: История. Политология. Право. 2019. № 4. С. 41-46.
- Цибиков Б.Д. Обычное право селенгинских бурят. Улан-Удэ, 1970. 283 с.
- Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1911. 698 с.
- Wood A. Russia's frozen frontier: A history of Siberia and the Russian Far East, 1581-1991. L.; N. Y., 2011. 320 p.