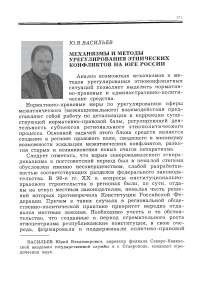Механизмы и методы урегулирования этнических конфликтов на юге России
Автор: Васильев Юрий Владимирович
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Социология региона
Статья в выпуске: 3 (52), 2005 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены сущность и причинно-следственный комплекс этнополитического конфликта на Юге России. Выделены и проанализированы политические, этнические, социальные, конфессиональные, геополитические, экономические и другие факторы, формирующие конфликтность как социальное явление. Особое внимание уделяется механизмам и методам урегулирования межэтнического конфликта, исключающим возможность его воспроизводства на Юге России.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222180
IDR: 147222180
Текст научной статьи Механизмы и методы урегулирования этнических конфликтов на юге России
Анализ возможных механизмов и методов урегулирования этноконфликтных ситуаций позволяет выделить нормативно-правовые и административно-политические средства.
Нормативно-правовые меры по урегулированию сферы межэтнического (межнационального) взаимодействия представляют собой работу по детализации и коррекции существующей нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность субъектов регионального этнополитического процесса. Основной задачей этого блока средств является создание в регионе правового поля, сводящего к минимуму возможности эскалации межэтнических конфликтов, развития старых и возникновения новых очагов сепаратизма.
Следует отметить, что взрыв северокавказского этнорадикализма в постсоветский период был в немалой степени обусловлен именно несовершенством, слабой разработанностью соответствующих разделов федерального законодательства. В 90-е гг. XX в. вопросы институциональноправового строительства в регионах были, по сути, отданы на откуп местным законодателям, немалая часть решений которых противоречила Конституции Российской Федерации. Причем в таких случаях в региональной общественно-политической практике приоритет нередко отдавался местным законам. Необходимо учесть и то обстоятельство, что созданные в период стремительного роста этноцентризма республиканские конституции, в свою очередь, формировали и поддерживали политико-правовой
ВАСИЛЬЕВ Юрий Владимирович, директор филиала Северо-Кавказской академии государственной службы в г. Ставрополе, кандидат юридических наук.
фон, благоприятный для деятельности радикальных этнополитических образований.
Последние получили возможность легально действовать под видом культурно-просветительских и культурно-религиозных организаций, используя открытую или слегка закамуфлированную поддержку органов республиканской власти или отдельных неформальных элитных групп. Это касается не только национальных республик, но и областей, краев Российской Федерации. В Краснодарском и Ставропольском краях основные противоречия с федеральным законодательством в этнической сфере связаны, в частности, с регулированием миграции. Проблема большого числа мигрантов заставила, например, в уставе Ставропольского края закрепить преимущество жителей края перед другими лицами, находящимися на его территории, в реализации отдельных прав, обеспечиваемых за счет материальных, финансовых и иных ресурсов региона, обеспечивая права и свободы только коренных жителей края. Не решенный на федеральном уровне вопрос о свободной купле-продаже земли в регионах Северного Кавказа, как правило, регулируется в сторону запретов, не предусмотренных российской Конституцией. Так, по уставу Ставропольского края допустима лишь купля-продажа участков земли, занятых личными строениями граждан, садово-огородными участками. Закон о земле, принятый в Краснодарском крае в 1995 г., носит сугубо запретительный характер.
Изменение подобных положений подразумевает если не ликвидацию, то, по крайней мере, существенное сокращение имеющихся несоответствий регионального законодательства федеральному. Требуется детальная разработка процедурно-правового механизма, позволяющего четко и недвусмысленно (не только по формальным признакам, но и по содержательным) квалифицировать действия всех субъектов регионального этнополитического процесса. Речь идет о создании пакета нормативных актов, способных однозначно определять те или иные действия как нарушение конституционных основ федерализма (нарушение принципа территориальной целостности Российской Федерации) либо как ущемление национальных интересов россий- ского государства и посягательство на конституционные права российских граждан.
Огромное значение на Юге России имеет институционально-правовая защита конституционных прав граждан вне зависимости от их этнического происхождения, конфессиональной и социоэтнокультурной принадлежности. В данном контексте следует выделить защиту нетитульных народов и национальных меньшинств в республиках, областях и краях Юга России. Учитывая масштабы этнизации республик, речь должна идти о разработке пакета нормативных актов, в соответствии с которыми общественно-политическая практика, несущая в себе этнорадикальные элементы, могла быть квалифицирована как посягательство одной группы граждан России (в данном случае титульной национальности) на конституционные права других групп (представителей остальных республиканских этнических общностей).
Для администраций регионов самое существенное значение имеет более детальная проработка политико-процедурных актов, касающихся обеспечения основных сфер жизнедеятельности национально-культурных общин и диаспор. С учетом быстрого количественного роста последних это направление нормативно-правовой деятельности по оптимизации межэтнических взаимодействий из преимущественно перспективной формы ускоренными темпами трансформируется в первоочередную. В максимальной степени это относится к Краснодарскому и Ставропольскому краям.
Административно-политический блок мероприятий по оптимизации межэтнического взаимодействия и разрешения (урегулирования) этнополитических конфликтов также представляет широкий спектр деятельности. Среди его основных направлений следует выделить общественно-политическое и административно-управленческое.
Общественно-политическое направление представляет комплекс мер по коррекции, структурированию регионального политического ландшафта. Перспективной здесь представляется поддержка в республиках пророссийски ориентированных общественно-политических движений и организаций. Это направление деятельности напрямую связано с необходимостью пропаганды и популяризации
(разъяснения) действий, целей и задач федерального центра в области региональной национальной политики. Необходимо учитывать и то, что организации и движения, характеризуемые достаточно высоким уровнем этнического радикализма, как правило, не являются однородными образованиями. В их составе имеются влиятельные фракции и группировки, настроенные компромиссно и готовые к диалогу. Этой возможностью ни в коем случае не следует пренебрегать.
Важным направлением деятельности является создание различного рода общественно-политических организаций (комиссий, комитетов и т.п.), призванных согласовывать спорные вопросы, возникающие между этническими общностями и другими субъектами этнополитического процесса. Речь идет об активном конструировании республиканского политического поля, формировании на местах более «толерантного» межэтнического политического ландшафта.
Не менее существенной является роль административно-управленческой деятельности. При анализе чеченского сепаратистско-террористического комплекса значительная часть задействованной в сепаратистском движении материально-технической базы и инфраструктуры принадлежала легальным субъектам хозяйственной и общественно-политической деятельности. В осетино-ингушском этническом конфликте в первой половине — середине 90-х гг. XX в. республиканские структуры занимали центральное положение, задействовав в его эскалации ресурсы обоих национально-административных образований.
В целом аналогичное положение сложилось и в остальных республиках, в которых даже самые крайние этнора-дикальные организации широко задействовали в своих целях финансово-экономические, материально-технические и информационные ресурсы местного производственного комплекса и социальной сферы. Так, в частности, «ваххабиты в Дагестане и Карачаево-Черкесии используют общественные здания и сооружения (в основном сельские ДК) для своих встреч и собраний, регистрируясь под видом других общественных организаций. Сепаратисты из „Адгылара“, МЧА и „Тенглик“ используют вполне легально функционирующие печатные издания»1
Очевидно, что подобное может происходить только при попустительстве или скрытой поддержке местной власти. В связи с этим было бы необходимо «пролоббировать создание законов или хотя бы подзаконных актов, согласно которым привлекались бы к ответственности (с четко оговоренными санкциями, порядком и процедурой их применения) не только общественные субъекты, непосредственно нарушающие закон, но и те субъекты — органы государственной, региональной и муниципальной власти, — которые своим бездействием, неполным или недобросовестным исполнением служебных обязанностей способствуют прорастанию сепаратистских устремлений»2
Однако в распоряжении федерального центра имеются и другие формы воздействия, способные заставить местную власть более активно и целенаправленно влиять на своих этнорадикалов. Под такого рода «влиянием» мы имеем в виду приостановку деятельности печатных органов, издательств, радиостанций, способствующих разжиганию межнациональной розни, проверку банков, фондов, финансово поддерживающих этнических радикалистов. Под более строгий контроль должно быть поставлено использование административных зданий, компьютерной техники и служебных помещений, используемых под собрания. При этом к административно-управленческому направлению следует отнести и достаточно обширный комплекс мер неформального характера. Речь идет о формировании разветвленной системы личных контактов с лидерами родовых сообществ, крупнейшими республиканскими бизнесменами, как правило, представляющими мощные кланово-клиентальные образования.
«Налаживание устойчивых связей с молодой бизнес-элитой и политической элитой, оппозиционной региональным властям, послужит эффективным противодействием попыткам республиканской власти спекулировать на роли „гаранта стабильности" перед федеральным центром. Нынешние республиканские власти должны постоянно чувствовать, что то общественное положение, которое они ныне занимают, необходимо заслужить, и что если этого не делать, их легко заменит молодая элита, которая рвется на их место. Необходимо также, чтобы представители органов государственной власти оказывали посильное (при этом не выходящее за рамки служебной этики и бытовой морали) протекционистское содействие лояльным клановым группам (скажем, в получении госзаказов производствами, которые контролируются данной группой) и одновременно с этим оказывали всемерное давление на оппозиционные.
В случае, если удастся сформировать у кланово-клиен-тальных образований лояльное отношение к федеральной власти, их нужно привлекать к активной миротворческой и посреднической деятельности (разумеется, при жестком контроле со стороны федеральных спецслужб), широко афишируя ее. Иными словами, общественному влиянию кланово-клиентальных групп необходимо придать своеобразный компрадорский характер, начиная от формирования соответствующего имиджа в СМИ и заканчивая конкретной практической деятельностью»3
Таким образом, комплекс нормативно-правовых, общественно-политических и административно-управленческих мероприятий в состоянии позитивно воздействовать на этнорадикальные силы и на Юге России в целом. Однако только этих мер недостаточно без реализации комплекса социально-экономических мероприятий.
В настоящий период Юг России и прежде всего национальный Северный Кавказ в социально-экономическом плане оказались среди наиболее кризисных регионов Российской Федерации. Так, при общероссийском сокращении промышленного производства к концу 90-х гг. XX в. до 48—49 % от уровня 1991 г. этот показатель по отдельным регионам Юга России составил 25—40 %. Интегральный социально-экономический коэффициент, рассчитанный группой ростовских исследователей по 10 основным параметрам экономического развития и ситуации в социальной сфере, зафиксировал, что экономический потенциал и уровень жизни в субъектах Северного Кавказа в 2—4 раза уступает общероссийским показателям. При среднероссийском коэффициенте в 3 балла административные образования региона делятся на три группы. Первая — Чечня, Ингушетия, Дагестан (показатели 0,6—1,4 балла) — самые бедные территории, уступающие по уровню жизни даже невысоким общерегиональным показателям. Вторая — Кабардино-Балкария, Карачево-Черкесия, Северная Осетия— Алания (1,9—2,05) — характеризуемые средним для Северного Кавказа уровнем социально-экономического развития. Третья — Ростовская область, Адыгея, Краснодарский и Ставропольский края (2,25—2,55) — наиболее «зажиточные» в регионе, но уступающие почти в 1,5 раза среднероссийским показателям4
Другой социально-экономической проблемой, напрямую связанной с экономическим кризисом, является высокая безработица, прежде всего в республиках. Однако у этой проблемы есть и другая причина — традиционный тип демографического воспроизводства. Трудоизбыточность северокавказских национальных образований начала проявляться с начала 70-х гг. XX в., однако в источник социальной и экономической напряженности превратилась в постсоветский период.
По официальным данным, к 2000 г. удельный вес безработных среди трудоактивного населения Дагестана достигал 7,7 %, Ингушетии — 10,0, Кабардино-Балкарии — 3,9 %. «Между тем реальная безработица, включая формальную занятость и вынужденную занятость в домашнем хозяйстве, существенно выше и достигает, например, в Кабардино-Балкарии 35 % экономически активного населения. По некоторым республикам фактический процент безработных, рассчитанный в соответствии с методикой Международной организации труда (МОТ), достигает 52 %. Занятость в регионе имеет специфические особенности. Безработица — это в основном проблема молодежная: до 70 % молодых людей в возрасте до 30 лет безработные... Вторая крупная группа населения, которую затронула безработица, — женщины»5
Эти показатели относятся к 1998—1999 гг., однако и спустя пять лет, в 2003—2005 гг., ситуация в сфере занятости (прежде всего молодежной) в республиках остается очень сложной. Напомним, что именно молодежь (20—35 лет) составляет наиболее активную часть всех региональных эт-норадикальных течений и экстремистских группировок.
Таким образом, программы социально-экономического развития Юга России, в целом, и Северного Кавказа, в частности, должны быть ориентированы на включение в сферу легальной экономической деятельности трудоизбыточной молодежи. Однако эта проблема много сложнее, чем просто создание нужного количества рабочих мест. Значительная часть местной рабочей силы в период затянувшегося экономического кризиса утратила необходимую квалификацию. Другая часть оказывается в современных условиях невостребованной в своем прежнем профессиональном качестве и нуждается в переквалификации.
Большую проблему представляют традиционные соци-опрофессионалъные предпочтения и ориентации на вторичный и третичный секторы экономической деятельности (посредничество, услуги и торговля), существенно сокращающие возможности «прямолинейного» решения проблемы трудоизбыточности через организацию новых производств. В данном случае нельзя обойти вниманием широкое распространение среди населения республик «маргинально-адаптивных стратегий экономического поведения. Их суть сводится к тому, что широкие слои населения связывают рост своего социального статуса и благосостояния с ростом доли „престижного потребления11... При этом у наиболее маргинализованных слоев рост профессиональной квалификации и образовательного уровня не входит в число значимых ценностей, влияющих на социальный статус. Соответственно, предельно низкой является мотивация на современную экономику (независимо от того, к частному или государственному сектору она принадлежит)»6.
На наш взгляд, реально существующая проблема в подобной формулировке все же излишне «акцентирована». В связи с этим заметим, что ориентация коренных национальностей Северного Кавказа на непроизводственные сферы экономики (выступающая одной из причин межэтнической напряженности в русских поселениях региона) не представляется отрицательной установкой, требующей неукоснительной корректировки. Социопрофессиональная специализация этнической группы в многоэтническом обществе — распространенное явление в мире. Более того, его можно считать естественным, поскольку в большинстве случаев такая «этнопрофессиональная» структура складывается стихийно и на основе принципа взаимодополни- тельности, когда каждая группа находит и занимает свою производственную нишу. В этом отношении торгово-посредническая ориентация представителей Северного Кавказа вполне органично дополняет производственно-социальные предпочтения восточно-славянского большинства Юга России и Российской Федерации в целом (мы сейчас оставляем в стороне социопсихологические и психоповеденческие аспекты этого вопроса).
Существенно и то, что многие территории региона обладают значительным рекреационно-туристическим потенциалом, который предполагает приоритетное развитие сферы услуг, посредничества и разнообразного мелкого предпринимательства. Достаточно сказать, что согласно целевой программе Южного федерального округа к концу 2006 г. рекреационно-туристический комплекс округа должен принимать ежегодно порядка 15—20 млн отдыхающих и туристов. И хотя основные мощности этого комплекса относятся к Краснодарскому и Ставропольскому краям (Черноморское побережье и район Кавказские Минеральные Воды), практически все северно-кавказские республики располагают значительным рекреационным потенциалом (климат, горные территории, прибрежная зона Дагестана). О том, что обслуживание курортно-туристического комплекса может стать одним из социопрофессиональных приоритетов местного населения свидетельствует и факт стремительно растущей полиэтничности рекреационных территорий Кубани и Ставрополья, которые притягивают к себе представителей Северного Кавказа и Закавказья.
Возвращаясь непосредственно к проблеме региональной безработицы, отметим, что она может быть решена только в рамках более обширной и многоплановой работы по оптимизации социопрофессиональной структуры населения региона. Это направление, в свою очередь, взаимоувязано с масштабным процессом социокультурной и ментальной (социопсихологической) модернизацией всех этнических общностей Северного Кавказа. Социокультурная и учебнообразовательная составляющие этого комплекса являются темой отдельного рассмотрения. Здесь следует отметить, что сама по себе констатация относительной эффективности чисто экономических стабилизационных мер ни в коем случае не подвергает сомнению необходимость активной работы по планированию и развитию социально-экономической сферы административных образований, входящих в состав Юга России.
Значительную роль играют и общефедеральные программы, адресно ориентированные на регион (федеральный округ), и, в частности, целевая программа «Юг России», рассчитанная на 2002—-2006 гг. Программа включает 688 инвестиционных проектов, охватывающих все сферы социальной и экономической жизни региона, и четыре уровня. Первый включает проекты межгосударственного (международного) значения — около 60 проектов. Второй — проекты общефедерального значения (более 150 мероприятий). Третий — межрегионального значения (300). Четвертый — проекты, имеющие региональное значение (около 260 мероприятий).
Приоритетными экономическими направлениями являются топливно-энергетическое, транспортное, агропромышленное и курортно-туристическое. О масштабах топливно-энергетических начинаний свидетельствуют заложенные в программу параметры: вместо 14 млрд м3 газа и 11 млн т нефти, добываемых на Юге России в настоящее время, к концу 2006 г. добыча должна составить 30 млн т нефти и 40 млрд м3 газа. Амбициозными являются проекты и в сфере транспортного комплекса. Наряду с увеличением пропускной способности уже существующих трубопроводов намечается прокладка новых нефте- и газопроводов (в том числе и газопровода через Черное море по международному маршруту: Изобильное — Черное море — Анкара). Как результат, общий объем прокачиваемой через территорию региона нефти должен возрасти с 40 до 100 млн т.
Параллельно планируется развитие ряда важных транспортных коридоров. В том числе таких, как Хельсинки — Санкт-Петербург — Москва — Ростов-на-Дону — Новороссийск — Астрахань; Москва — Ростов-на-Дону — Минеральные Воды — Махачкала — Баку — Джульфа/Иран/. Интенсивными темпами будут развиваться Азово-Черноморские и Каспийские морские порты, призванные компенсировать утрату крупных транспортных узлов, оказавшихся за пределами страны после распада Советского
Союза. Продолжится строительство и нового порта «Оля» в Астраханской области.
Существенное место в программе занимают проекты, связанные с развитием регионального курортно-рекреационного и туристического комплекса. Достаточно сказать, что к концу 2006 г. планируется довести число мест круглогодичного пребывания до 118 тыс. чел., а общую численность ежегодно отдыхающих — до 15—20 млн чел.
Реализация программы позволит создать условия устойчивого развития и улучшения социально-экономической обстановки в регионе, что существенно сократит отставание Юга России от среднефедеральных показателей по большинству макроэкономических показателей; существенно повысит финансовую самообеспеченность; в значительной степени решит проблему трудозанятости (сохранить 140 тыс. имеющихся и создать порядка 700 тыс. новых рабочих мест).
Важнейшим элементом системного механизма разрешения региональных этнополитических конфликтов является комплекс превентивно-профилактических мероприятий, основой которого является система этнологического мониторинга (СЭМ). В задачи СЭМ входит отслеживание и фиксация ситуации на всех участках потенциальной этнической конфликтности.
Одним из ведущих элементом СЭМ должна являться обширная информационная база, включающая сведения обо всех важнейших характеристиках жизнедеятельности многосоставных территориальных общностей. При этом помимо общей информации демографического (численность и формы расселения, половозрастной состав и тип демографического воспроизводства и т.п.), экономического, социокультурного (уровень образования, производственная ориентация и социопрофесиональная структура), социопсихологического (уровень этнической консолидированности, сохранность родовых связей, система этнических стереотипов и установок и т.п.) или конфессионального характера должна иметься достаточно объемная (если не исчерпывающая) информация по более частным вопросам, имеющим отношение к специфике местного межэтнического взаимодействия и уровню потенциальной конфликтогенности.
Среди таких важных «частностей» можно назвать отслеживание работы основных республиканских общественно-политических движений и партий, а также деятельности местных СМИ (по уровню влиятельности и степени распространения среди различных слоев населения); фиксацию форм деятельности и источников финансирования действующих на потенциально проблемных территориях зарубежных центров, фондов и других организаций; определение каналов влияния, идущих по линии этнических диаспор. В администрациях региона такая информационная база должна включать сведения об основных потоках этнической миграции (места расселения, демографический, тендерный, возрастной и этнический состав; социопрофессиональная структура, состояние здоровья и т.д.).
Речь, по сути, идет об интегральном картировании проблемных территорий. В конечном счете необходимо создание подробных электронных этноконфликтологических атласов всех административно-территориальных образований Юга России, в разрезе отдельных городов и сельских районов. Причем, как и служба Гидрометцентра, информационные структуры СЭМ должны работать в режиме реального времени (периодичность «замеров», очевидно, должна различаться в зависимости от специфики конкретных участков и уровня напряженности этнополитического процесса), а отслеживаемая динамика, в свою очередь, должна оперативно и в полной мере использоваться в работе других отделов превентивно-профилактического комплекса.
Наряду с задачами этнополитического мониторинга, такие центры могли бы выполнять функцию консультативного органа. К числу его непосредственных задач могло бы относиться и проведение общей этноконфликтологической экспертизы подготавливаемых административно-управленческих решений и разрабатываемых нормативно-правовых актов. Во многих районах Юга России такая экспертиза в настоящее время становится абсолютно необходимым условием эффективного управления социотерриториальной общностью.
Необходимо также подчеркнуть, что подобные центры должны быть напрямую связаны не только с высшим звеном административно-управленческого аппарата своих тер- риториальных образований, но и с «низовой» властью, управленцами тех сообществ (небольших городов, сельских районов, поселков, станиц), в которых могут возникнуть межэтнические конфликты. В русских администрациях именно этот уровень территориального деления в настоящее время можно считать базовым в предупреждении конфликтов, но и для республик он является важнейшим в оптимизации сферы межэтнических взаимодействий. В связи с этим необходима система специализированного этнологического и конфликтологического обучения низового административного корпуса и прежде всего управленцев населенных пунктов с полиэтническим составом населения.
К административно-организационной линии этого блока можно отнести и создание на местах (на уровне отдельных административных районов) советов межнационального согласия (советов старейшин, советов представителей национальных групп и т.п.), включающих представителей власти и авторитетных лидеров местных этнических общин (а при необходимости и лидеров мигрантских организаций). Прецеденты организации таких «согласительных» структур на Юге России уже есть. Активная работа по их созданию ведется в Ростовской области, в которой они функционируют уже во многих административных районах и городских центрах.
Еще одним элементом в системе этнополитической профилактики является создание при высшем руководстве республик и администраций экспертных групп быстрого реагирования, состоящих из различных специалистов (этноконфликтологов, социопсихологов, профессиональных переговорщиков и т.п.). Основной их задачей может быть оперативное вмешательство в конфликтный процесс на ранней стадии его эскалации.
Наконец, самое существенное место в системе профилактики межэтнической напряженности занимает просветительско-пропагандистская деятельность, организация культурно-национальных и фольклорных праздников, позволяющих различным этническим общностям лучше узнать друг друга.
Безусловно, не все обозначенные направления профи-лактически-превентивного комплекса могут быть одновременно представлены во всех низовых территориальных менно представлены во всех низовых территориальных общностях. В зависимости от конкретных обстоятельств предпочтение может быть отдано тем или иным формам, за исключением системы этнологоконфликтогенного мониторинга, развитие которой, на наш взгляд, является абсолютно необходимым условием всего данного комплекса.
Список литературы Механизмы и методы урегулирования этнических конфликтов на юге России
- Исследование проблем сепаратистских ориентации на Северном Кавказе как фактор национальной безопасности Российской Федерации: Научный отчет. СКНИ Высшей школы, Ростов н/Д, 2000. С. 146.
- Там же. С. 147.
- Там же. С. 158-159.
- Игнатов В.П. и др. Технологии управления этнополитическими процессами в Северокавказском регионе. Ростов н/Д, 1999. С. 29-30.
- Тишков В.А. (отв. ред). Пути мира на Северном Кавказе: Независимый экспертный доклад. М., 1999. С. 86-87.
- Исследование проблем сепаратистских ориентации на Северном Кавказе... С. 16.