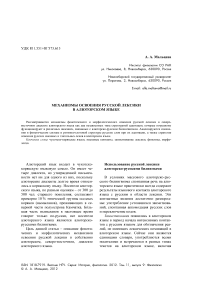Механизмы освоения русской лексики в алюторском языке
Автор: Мальцева Алла Александровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Семантические и прагматические параметры слова в языке и тексте
Статья в выпуске: 9 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются механизмы фонетического и морфологического освоения русской лексики в северовосточном диалекте алюторского языка как два независимых типа структурной адаптации, которые по-разному функционируют в различных явлениях, связанных с алюторско-русским билингвизмом. Анализируются изменения в фонетическом составе и ритмико-слоговой структуре русских слов при их адаптации, а также стратегии освоения русских именных иглагольных основ валюторскомязыке.
Чукотско-корякские языки, языковые контакты, заимствование лексики, фонетика, морфология
Короткий адрес: https://sciup.org/14737967
IDR: 14737967 | УДК: 811.551+81''373.613
Текст научной статьи Механизмы освоения русской лексики в алюторском языке
Алюторский язык входит в чукотско-корякскую языковую семью. Он имеет четыре диалекта, но утвержденной письменности нет ни для одного из них, поскольку алюторские диалекты долгое время относились к корякскому языку. Носители алюторского языка, по разным оценкам – от 300 до 500 чел. старшего поколения, составляют примерно 10 % этнической группы оседлых коряков (нымыланов), проживающих в северной части полуострова Камчатка. Бóль-шая часть нымыланов в настоящее время говорит только по-русски, все носители алюторского языка являются алюторско-русскими билингвами.
Цель данной статьи – описание фонетических и морфологических механизмов освоения русской лексики в собственно алюторском, северо-восточном, диалекте алюторского языка.
Использование русской лексики алюторско-русскими билингвами
В условиях массового алюторско-русского билингвизма спонтанная речь на алюторском языке практически всегда содержит результаты языкового контакта алюторского языка с русским в области лексики. Эти контактные явления достаточно разнородны: употребление устоявшихся заимствований, спонтанная аккомодация русских слов и переключение кодов.
Заимствования появились в алюторском языке в период начала интенсивных контактов с русским языком для обозначения реалий, не имеющих лексических номинаций в алюторском языке. Сейчас они являются единицами словаря, употребляются всеми носителями и встречаются в разных типах текстов на алюторском языке, включая
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 9: Филология © А. А. Мальцева, 2012
фольклорные. «Старые» заимствования всегда морфологически освоены, имеют высокую степень фонетической адаптации, а их семантика может отличаться от исходной семантики русской лексемы, например ʔурваӄ ‘верхняя одежда, платье’ (< рубаха ) 1.
Спонтанная аккомодация 2 русских лексем является живым речевым процессом, частотным в речи алюторско-русских билингвов. Использование русской лексики в данном случае восполняет как языковые, так и индивидуальные лексические лакуны. Некоторые носители алюторского языка, сохраняя матричный язык, могут оперативно заменять недостающие лексемы соответствующими русскими, оформляя их в соответствии с механизмами адаптации, сложившимися в предыдущие периоды языкового контакта. Спонтанная аккомодация русской лексики более характерна для текстов, не имеющих воспроизводимой заданной структуры, например автобиографических рассказов, которые продуцируются непосредственно в момент речи.
Ключевым параметром сохранения языкового единства в пределах текста является морфологическая адаптация иноязычных слов. Фонетическая адаптация в этом случае, напротив, необязательна. Ее наличие и степень зависят от полноты освоения артикуляционно-акустической базы русского языка конкретным индивидом, поэтому наблюдается вариативность степени фонетической адаптации русских слов как у разных носителей языка или диалекта, так и у одного и того же носителя:
[ ɣ óro t =əŋ / ɣ óro d =əŋ / g óro t =əŋ / g óro d =əŋ] ‘в город (город=DAT)’.
Переключение кодов 3, т. е. переход с алюторского языка на русский в пределах одного текста или даже одного предложения, может быть обусловлено целым рядом причин. Одна из них, но, вероятно, не наиболее важная для переключения кодов, совпадает с причиной спонтанной аккомодации лексики: внезапное выпадение из памяти нужного слова. В этот момент говорящий стоит перед выбором – сохранить матричный язык, оперативно морфологически адаптировав русское слово, либо употребить русскую лексему в русском морфологическом оформлении. Результат выбора зависит от целого комплекса сложных факторов, требующих детального изучения, и, вероятно, нелингвистическими методами: это степень спонтанности речи на родном языке, скорость и специфика мозговой деятельности, психотип конкретного говорящего.
Более существенную роль при переключении кодов играют прагматические факторы, поскольку переключение кодов чаще всего инициируется экстралингвистически-ми причинами и связано с сознательным маркированным изменением матричного языка. Переключение кода, помимо собственно передачи информации, обеспечивает выполнение дополнительных прагматических интенций говорящего: выделение текстового фрагмента (начало или конец текста, эмоционально насыщенный или кульминационный эпизод, маркировка речи иноплеменника), обеспечение обратной связи с адресатом, желание удостовериться в точном понимании адресатом смысла повествования, создание комического эффекта и пр.
В паланском, юго-западном, диалекте алюторского языка, подвергшемся наиболее сильной русификации, зафиксировано немотивированное переключение кодов, проявляющееся как принципиальная невозмож-
[Muysken, 2000; Русаков, 2004. С. 83]. В первом случае оба языка, на которых говорит билингв, являются в равной степени матричными по отношению к данному тексту, переход с одного языка на другой, как правило, происходит на границе предложений. Во втором случае матричным является только один язык, в связный текст на котором включаются отдельные неадаптированные словоформы второго языка. В спонтанных текстах, впрочем, не всегда есть возможность поставить четкую границу между этими двумя явлениями. Для данного описания противопоставление переключения и смешения кодов не является релевантным, поэтому мы рассматриваем русские неадаптированные словоформы, даже изолированные, в алюторском тексте как разновидность переключения кодов.
ность исключения перехода с одного языка на другой при любом матричном языке (подробно см.: [Мальцева, 2006]). Такое явление рассматривается как смешение языков ( language mixing ).
Показателем переключения кодов является русское морфологическое оформление словоформ, фонетическая адаптация, как и в случае спонтанной морфологической аккомодации, вариативна, в большей степени она присутствует у носителей алюторского языка старшего поколения, которые говорят по-русски с сильным акцентом: ню к ает ‘нюхает’, с оловеки ‘люди’.
Фонетическое освоение русской лексики
Фонетическая адаптации строится на преодолении различий между фонетическими системами взаимодействующих языков.
Консонантизм . Консонантная система алюторского языка существенно отличается от русской (ср. табл. 1 и 2): в русском языке 37 основных согласных фонем [Лукьянова, 1999. С. 46], в алюторском их всего 18. Наиболее важные системные различия связаны с незначительным количеством шумных согласных алюторского языка по сравнению с русским, отсутствием противопоставления по глухости-звонкости.
Отсутствие в алюторской консонантной системе корреляции по глухости-звонкости при освоении русских слов, содержащих звонкие согласные, приводит к их замещению согласными других типов в зависимости от локального ряда.
Переднеязычный звонкий смычный согласный [d] переходит в соответствующий шумный смычный [t]: сол д ат → [sál t at]. Заднеязычный звонкий смычный [g] меняется на соответствующий шумный щелевой [ɣ]: город → [ ɣ ó-rot].
Для русского звонкого смычного лабиального [b] нет однозначного соответствия в алюторском языке, возможны разные варианты освоения, но все они находятся в пределах соответствующего локального ряда лабиальных: шумный смычный [p]: кара б ин → [kará p in]; шумный фрикативный [v]: б аня → [ v ánja], вероятно, связанный с инлаут-ной позицией; сонорный назальный [m]: б умага → [ m umáɣa]. В последнем случае можно усматривать дистантную ассимиляцию по способу образования.
Класс фрикативных в алюторском языке весьма невелик, и в нем также нет оппозиции по глухости-звонкости: в некоторых локальных рядах представлены звонкие спиранты, в других – глухие. Поэтому освоение слов со спирантами имеет варианты, даже для одной и той же лексемы.
Русский глухой фрикативный лабио-дентальный [f] осваивается преимущественно как шумный смычный губной [p] либо как фрикативные шумные [v] или [s]: карто ф ель → [kartú p əlj / kartú v əlj]; верё в ка [ф] → [virú p ka / virú s ka]. Глухой фрикативный заднеязычный [х] замещается шумными смычными – увулярным [q] или заднеязычным [k]: паро х од → [pará q ot]; ш х уна → [sə k úna(n)].
Многочисленные в русском языке переднеязычные свистящие и шипящие, и простые, и аффрикаты, находят соответствие в единственной фонеме [ s / sj / ts / tsj] со сходными акустическими характеристиками. В алюторском языке данная фонема имеет несколько свободных вариантов, в том числе аффрикаты, которые исходно были характерны для женского произношения: з емлянка → [ s imljánka(n)]; ш люпка → [ s iljúpka]; я щ ик → [já s ik]; ц епь → [ s ápa(n)]; лампо ч ка → [lámpə s ka].
В алюторском консонантной системе нет тотального противопоставления палатализованных и непалатализованных согласных, имеются только две пары коррелятов по данному параметру: [l] – [lj] и [n] – [nj]. При освоении русских слов с этими двумя палатализованными согласными в алюторском языке они сохраняются, остальные замещаются непалатализованными: от р яд → [ʔát r at]; печать → [písa t ].
Вокализм . В вокалической системе алюторского языка, в отличие от русского языка, выделяются краткие и долгие гласные (ср. табл. 3 и 4), однако их статус в языковой системе различен.
Первичные гласные полного образования в алюторском языке только три: [i], [u], [a]. Соответствующие им долгие гласные, как правило, вторичны и восходят к дифтонго-идным сочетаниям: [ī] (< ej, əɣ); [ū] (< aw); [ā] (< əʔ).
Широкие краткие гласные [e] и [o] в чукотском и корякском языках задействованы в гармонии гласных по подъему, отсутствующей в алюторском языке, где они представляют собой скорее свободные варианты
Консонантная система русского языка
Таблица 1
*
|
Способ образования |
Локальные ряды и дополнительные признаки |
||||||||||||
|
Губные |
Переднеязычные |
Среднеязычные |
Заднеязычные |
||||||||||
|
Губно-губные |
Губно-зубные |
Зубные |
Передненёбные |
Средненёбные |
Задненёбные |
||||||||
|
Тв. |
Мяг. |
Тв. |
Мяг. |
Мяг. |
Мяг. |
Тв. |
Мяг. |
Мяг. |
Тв. |
Мяг. |
|||
|
о л и 3 3 |
Смычные |
Гл. |
p |
pj |
t |
tj |
k |
k j |
|||||
|
Зв. |
b |
bj |
d |
dj |
g |
gj |
|||||||
|
Щелевые |
Гл. |
f |
fj |
s |
sj |
š |
šj |
x |
x j |
||||
|
Зв. |
v |
vj |
z |
zj |
ž |
žj |
j |
[ɣ ] |
[ɣj] |
||||
|
Аффрикаты |
Гл. |
ts |
tjšj |
||||||||||
|
Зв. |
[dz] |
[djžj] |
|||||||||||
|
н и св И о и |
Назальные |
m |
m j |
n |
n j |
||||||||
|
Латеральные |
l |
lj |
|||||||||||
|
Вибранты |
r |
r j |
|||||||||||
Таблица составлена на основе физиологической классификации согласных звуков русского языка, представленной в [Лукьянова, 1999. С. 44].
*
Таблица 2
|
Способ образования |
Локальные ряды и дополнительные признаки |
||||||||
|
Губные |
Переднеязычные |
Среднеязычные |
Заднеязычные |
Увулярные |
Ларингальные |
||||
|
Тв. |
Мяг. |
глоттальные |
эпиглоттальные |
||||||
|
Шумные |
Смычные |
p |
t |
k |
q |
ʔ |
ʕ |
||
|
Фрикативные |
v |
s /sj / ts / tsj |
γ |
||||||
|
Сонанты |
Назальные |
m |
n |
n j |
ŋ |
||||
|
Латеральные |
l |
l j |
|||||||
|
Вибранты |
r |
||||||||
|
Полугласные |
w |
j |
|||||||
* При составлении табл. 2 и 4, а также в основных принципах описания фонетики алюторского языка мы опирались на фонетический очерк в [Кибрик и др., 2000. С. 177–206], написан- ный С. В. Кодзасовым и И. А. Муравьевой.
Консонантная система алюторского языка
Таблица 3 Вокалическая система русского языка *
i [ɨ] u
e о a
* При составлении таблицы мы опирались на традиционный способ представления ударных гласных фонем русского языка [Лукьянова, 1999. С. 50].
Таблица 4 Вокалическая система алюторского языка i (ī) u (ū)
e (ē) о (ō)
a ( ā)
узких гласных [i] и [u]. Широкие долгие гласные также вторичны, появились из ди-фтонгоидных сочетаний: [ē] (< aj); [ō] (< aɣ, aw). Фонологический статус редуцированного [ǝ] является спорным, так как обычно он вставляется для устранения стечения согласных.
О маргинальном положении широких гласных [e] и [o] в системе алюторского языка свидетельствуют освоенные заимствования, в которых [o] меняется на [u], а [e] – на [a]: к о нь → [k ú nja]; к о рова → [k ú ruv]; п е чь (сущ.) → [p á sin].
Монофтонгизация дифтонгоидных сочетаний в конечнослоговой позиции является живым фонетическим процессом, который проявляется и при освоении русских слов, например дифтонгоидное сочетание [aj] переходит в [ē]: ч ай- ник → [s jḗ -nik].
Cлоговая структура и ударение. Ритмико-слоговая структура алюторского языка принципиально отличается от русской. Слоговая структура и место ударения в словоформе алюторского языка являются строго закрепленными и тесно взаимосвязанными, в отличие от русского языка, имеющего свободное ударение и позволяющего использование слогов вплоть до (CCСC)V(CCС) 4, что может приводить к появлению громоздких консонантных кластеров.
В алюторском языке возможны слоги только структуры CV(C), поэтому при освоении слов со стечением согласных в основе их слоговая структура изменяется с помощью протетических и эпентетических гласных: бл юдце → [v ə -ljús-sə]. Перед про-тетическими гласными для построения прикрытого слога вставляется гортанный смычный: шт амп → [ ʔə s-tám-pa]; ст ол → [ ʔə́ s-tul].
В алюторском языке словоформа не может состоять из одного слога, поэтому при освоении односложных русизмов происходит наращение слога либо за счет эпентетического гласного полного образования: конь → [kú-nj a] ; либо за счет удвоения ауслаут-ного согласного и наращения редуцированного гласного: чай → [sáj- jə ]; соль → [súlj- ljə ] .
Ударение в алюторском языке не может падать на последний слог. В двусложных словах оно обычно падает на первый слог, в трех- и многосложных словах – на второй, поэтому при освоении русских слов с ударением на последнем слоге оно переносится на слог, соответствующий правилам алюторской слоговой структуры: караби́ н → [ka-r á -pin]; ведро́ → [v í t-ron]. Односложные слова, как было указано, осваиваются как двусложные, поэтому ударение в них ставится на первый слог (примеры см. выше).
Исключение из основного правила расстановки ударений – слова, в которых слоги, предназначенные для постановки ударения (первый слог в двусложных словах или второй в многосложных словах), являются «лёгкими», т. е. слогами типа «согласный + редуцированный гласный». Эти слоги в алюторском языке не могут нести ударение, поэтому, например, двусложные слова с первым слогом такого типа либо становятся безударными: клуб → [kə-lup], либо в них производится наращение третьего слога, а ударение ставится на второй: хлеб → [qə-líp- pə ].
можны слоги с четырьмя согласными перед гласным (ср. вспл еск ) и слоги с тремя согласными после гласного (ср. А-лек-са ндр ), при этом, однако, наличие всех семи консонантов в пределах одного слога вряд ли допустимо.
Морфологическое освоение русских слов
Различная по частям речи частотность спонтанной аккомодации русских слов вписывается в общее представление об иерархии заимствования, которая, по мнению большинства исследователей, не является универсальной, а специфична в каждой конкретной ситуации языкового контакта [Field, 2002. Р. 35]. Однако в соответствии с данной иерархией глаголы всегда заимствуются реже, чем имена, из-за общей сложности освоения концептов, связанных с действием, поскольку именно глаголы несут главный «синтаксический багаж» языка, который далеко не всегда позволяет легко адаптировать иноязычные глагольные лексемы [Myers-Scotton, 2002. Р. 76]. Кроме того, сложности в освоении глагольной лексики могут быть связаны с особенностями глагольного словоизменения одного или обоих взаимодействующих языков [Curnow, 2001. Р. 416].
Основную часть как заимствований, так и спонтанно осваиваемых русских слов составляют имена существительные и дискурсивные слова (частицы и союзы). Заимствование глаголов не является частотным, случаи заимствования прилагательных единичны. Морфологическое освоение, т. е. оформление алюторскими грамматическими показателями свойственно только существительным и глаголам, поскольку прилагательные и служебные слова в алюторском языке не изменяются.
Механизмы морфологического освоения для имен существительных и глаголов различны.
Морфологическое освоение имени существительного. Морфологическое освоение имени существительного проявляется в присоединении к основе русского слова показателей падежа или числа. У нарицательных существительных показатели единственного, двойственного и множественного числа одновременно выражают и значение абсолютива, показатели косвенных падежей число не маркируют.
Формы косвенных падежей в алюторском языке достаточно стандартны, их фонетический облик зависит от исхода основы. Более интересным является образование формы абсолютива исконных алюторских существительных, которая строится по од- ной из шести синтетических моделей (табл. 5), синхронно не связанных ни с формой, ни с семантикой слов. Из шести показателей абсолютива наиболее частотны две: с нулевым аффиксом и с аффиксом =(ə)n. Именно по этим двум моделям преимущественно строятся формы абсолютива единственного числа и при морфологическом освоении русских слов. В табл. 5. приведены лишь некоторые из многочисленных примеров. По третьей модели, с аффиксом =lŋən, образованы только два слова, оба они включены в табл. 5.
При освоении некоторых слов возможны вариативные формы абсолютива, могут использоваться обе частотные модели:
( sulj=ək / sulja=k ‘соль=LOC’).
Морфологическое освоение глаголов. В языках мира зафиксированы следующие стратегии заимствования глаголов [Wohlgemuth, 2009. Р. 293]:
-
• прямая вставка (direct insertion) – заимствованная глагольная основа используется как исконная, без каких-либо словообразовательных средств;
-
• непрямая вставка (indirect insertion) – к заимствованной основе (чаще именной) присоединяется исконный синтетический вербализатор;
-
• стратегия « легкого глагола » (light verb strategy) – заимствованная глагольная основа используется как лексический компонент аналитической конструкции;
-
• вставка парадигмы (paradigm insertion) – глагол заимствуется вместе со словоизменительной морфологией.
Первые две стратегии относятся к синтетическим способам адаптации, третья – к аналитическим. Вставку парадигмы мы трактуем как разновидность переключения кодов и в данной работе не рассматриваем.
При морфологическом освоении глаголов в алюторском языке используются толь-
Модели формы абсолютива единственного числа в исконных и освоенных существительных
Таблица 5
Из синтетических стратегий наиболее популярной в алюторском языке является непрямая вставка , при которой глагольные основы вторичны, они образуются от основ освоенных русских существительных по исконным словообразовательным моделям:
qəlíp= u =k ‘есть хлеб’ (хлеб = VBLZ.потребить=CV.loc) – ср. rətt= u =k ‘есть морошку’ (морош-ка = VBLZ.потребить=CV.loc);
vanjá= lʔat =ək ‘мыться в бане’ (баня=VBLZ.habit=CV.loc) – ср. ʕətvə= lʔat =ək ‘плавать, кататься на лодке’ (лодка=VBLZ.habit=CV.loc)
куси́ рə= тку =к ‘играть в карты’ (козырь=VBLZ.iter=CV.loc) – ср. wa-la= tku =k ‘работать ножом’ (нож=VBLZ.iter=CV.loc).
Стратегия прямой вставки , исконно практически не свойственная алюторскому языку, судя по текстам, записанным С. Н. Стебницким в 1928 г., с течением времени становится более популярной. При освоении русского глагола в помощью прямой вставки в качестве основы алюторского глагола используется либо форма русского инфинитива с депалатализованным показателем ( vəstúpat=ək ‘выступать’; risóvat=ək ‘рисовать’; pisátat=ək ‘печатать’; ʔupírat=ək ‘убирать(ся)’; sətúsat=ək ‘стучать(ся)’), либо, в единичных случаях, форма 2-го л. ед. ч. императива ( pəljási=k ‘плясать’ (< пляши ); kúsi=k ‘косить (траву)’ (< коси )).
Выводы
Таким образом, морфологическое и фонетическое освоение русской лексики – это два независимых типа структурной адаптации, которые по-разному функционируют в различных явлениях, связанных с алюторско-русским билингвизмом: морфологическая адаптация обязательна для заимствований и спонтанной аккомодации лексики, фонетическая адаптация в полной мере присутствует только в старых заимствованиях, при спонтанной аккомодации и переключении кодов она факультативна и возможна в разной степени.
В силу существенных различий между фонетическими системами русского и алюторского языков, в особенности принципов ритмико-слоговой структуры словоформы, при полном фонетическом освоении русские слова подвергаются значительным фонетическим преобразованиям, детальный анализ которых может позволить уточнить представление о фонетической системе алюторского языка.
Из шести моделей построения именной словоформы абсолютива единственного числа, имеющихся в алюторском языке, при морфологическом освоении русских слов используются только три. Возможно варьирование формы абсолютива некоторых существительных в пределах двух наиболее частотных в алюторском языке моделей. При морфологической адаптации глаголов в алюторском языке применяются синтетические стратегии непрямой и прямой вставки.