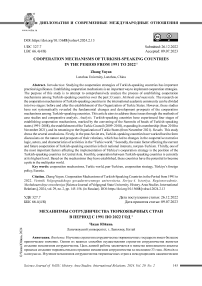Механизмы сотрудничества тюркоязычных стран в период с 1991 по 2022 год
Автор: Юйянь Ч.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Дипломатия и современные международные отношения
Статья в выпуске: 2 т.29, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. Изучение стратегии сотрудничества тюркоязычных государств имеет большое практическое значение. Одним из важных способов осуществления стратегии сотрудничества является cоздание механизмов сотрудничества. Цель данной работы заключается в попытке комплексного анализа процесса создания тюркоязычными странами механизмов сотрудничества за последние 33 года. Методы и материалы. Изучение механизмов сотрудничества тюркоязычных стран в международном академическом сообществе можно разделить на два этапа: до и после появления Организации тюркских государств. Однако полученные исследования недостаточно систематизированы, чтобы выявить коренные изменения в механизмах сотрудничества тюркоязычных стран и перспективы их развития. Статья посвящена решению данных проблем, используя метод сравнительного анализа. Анализ. Тюркоязычные страны прошли в построении механизмов сотрудничества четыре этапа, отмеченные проведением Саммитов глав тюркоязычных государств (1991-2008 гг.), созданием Тюркского совета (2009-2018 гг.), расширением его членства (2018 - ноябрь 2021 г.) и переименованием его в Организацию тюркских государств (с ноября 2021 г.).
Механизмы сотрудничества, тюркский мир, пантюркизм, стратегия сотрудничества, внешняя политика турции, евразия
Короткий адрес: https://sciup.org/149145714
IDR: 149145714 | УДК: 327.7 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2024.2.13
Текст научной статьи Механизмы сотрудничества тюркоязычных стран в период с 1991 по 2022 год
ы
DOI:
Цитирование. Чжан Юйянь. Механизмы сотрудничества тюркоязычных стран в период с 1991 по 2022 год // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2024. – Т. 29, № 2. – С. 145–156. – DOI:
Введение. Мир переживает 33-летний переход от биполярного к многополярному порядку после распада Советского Союза. В этом процессе одним из важных средств обеспечения державами достойного места в постбиполярном мире является стратегия сотрудничества, основанная на идеологии (например, НАТО), геоэкономике (например, ЕАЭС), геополитике (например, ЕC) или безопасности (например, ШОС), а также на комплексности (например, АСЕАН осуществляет стратегию сотрудничества на основе геополитики, геоэкономики и социально-культурной особенности). Думается, что надлежит привлечь внимание научных кругов к стратегии сотрудничества тюркоязычных стран по трем причинам.
-
1) Объект исследования имеет особый и важный характер. Теперь в мире существует шесть тюркоязычных стран (Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан) с общей площадью 4,73 млн кв. км и населением около 170 млн человек. Они обладают высоким уровнем представительства и большим правом голоса в Евразии. Состояние сотрудничества между ними имеет важное значение для геополитики, геоэкономики и безопасности Евразии. Одним из ярких примеров является конфликт вокруг Нагорного Карабаха.
-
2) Содержание исследования необходимо рассматривать в контексте идеологической борьбы и игры великих держав. Большое влияние на национальное сознание, межнациональные отношения и пути развития тюркоязычных стран Евразии оказывает идеология пантюркизма, которая является важным элементом игры великих держав в Евразии. Например, ученые из России полагают, что пантюркизм – мощная идеологическая и политическая база интеграционных процессов среди тюркоязычных стран и народов, но он носит агрессивный наступательный характер, угрожает интересам России в южных регионах СНГ и ее территориальной целостности [2; 14]. Ученые из КНР по-прежнему критически относятся к пантюркизму, а также к сотрудничеству тюркоязычных стран [12; 18; 20].
-
3) Стратегия сотрудничества между тюркоязычными странами является сложной и изменяющейся. У Турции, Казахстана и Узбекистана большие амбиции в отношении «тюркского мира» и даже Евразии. В то же время каждая страна имеет свои прагматические государственные интересы и осуществляет многовекторную дипломатию. Под влиянием этих факторов взаимодействие между тюркоязычными странами не всегда стратегическое, особенно в начале 2000-х гг., ког-
да отношения Казахстана и Узбекистана были не самыми простыми. Подобные ситуации время от времени меняют стратегию сотрудничества между тюркоязычными странами. Например, В.А. Аватков выделил три ключевых этапа взаимодействия Турции с постсоветским пространством: 1991–2002 гг. – «эпоха надежд», 2002–2014 гг. – «эпоха поэтапности», 2014 – н.в. – «эпоха туркоцентричной интеграции» [1]. Однако, по мнению автора, если посмотреть на процесс создания механизмов сотрудничества, то взаимодействие между ними проходит совершенно другую стадию развития.
Цель данной работы заключается в попытке комплексного анализа процесса создания тюркоязычными странами механизмов сотрудничества за период с 1991 по 2003 год. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-
1) Какие знаковые события и ключевые фигуры сыграли важную роль в создании тюркоязычными странами механизмов сотрудничества? Каковы перспективы их дальнейшего сотрудничества?
-
2) Какова роль пантюркизма в сотрудничестве тюркоязычных стран? Стимулирует ли он осуществление Турцией стратегий сотрудничества?
-
3) Каковы различия и изменения в подходе тюркоязычных стран Центральной Азии к созданию механизмов сотрудничества с Турцией? Каковы их потребности в них?
Методы и материалы. Изучение механизмов сотрудничества тюркоязычных стран в международном академическом сообществе можно разделить на два этапа: до и после появления Организации тюркских государств (далее – ОТГ). До появления ОТГ ученые в основном изучали развитие Совета сотрудничества тюркоязычных государств (далее – Тюркский совет). К примеру, российские ученые давно проявляли интерес к этому вопросу и анализировали негативное влияние Тюркского совета на Россию с точки зрения интеграции СНГ, геополитической конкуренции и развития тюркоязычных регионов страны [1; 4; 13; 22; 23]. Армянские, иранские и китайские ученые склонны рассматривать Тюркский совет как результат пантюркистс-кой экспансии [18; 20; 29; 33]. В Турции, Азер- байджане, Казахстане и Кыргызстане появилось много исследований, которые доказывают, что Тюркский совет имеет большие перспективы и присоединение к нему имеет важное значение для развития Узбекистана и Туркменистана [3; 15; 16; 27; 28]. После появления ОТГ российские ученые относятся к ней более негативно и обращают много внимания на стремление Турции к практике пантюркизма в Евразии [7; 10; 11]. Отношение к ОТГ ученых тюркоязычных стран полностью противоположно российским. Турецкое академическое сообщество не только пытается объяснить русскоязычному миру уникальность и преимущества ОТГ [17], но и демонстрирует англоязычному миру важную роль ОТГ в Евразии и мире, используя западные методы исследований, такие как социальный конструктивизм, многосторонность, функционализм и анализ SWOT [26; 30; 34]. Подобные исследования появились и в других тюркоязычных странах [25; 31].
Вышеупомянутые исследования до настоящего времени не были в достаточной мере систематизированы, чтобы выявить коренные изменения в механизмах сотрудничества тюркоязычных стран за последние 33 года и перспективы их развития. Данная работа посвящена комплексному исследованию процесса построения тюркоязычными странами механизмов сотрудничества за последние 33 года, анализу перспектив их дальнейшего сотрудничества и решению вышеуказанных задач. При исследовании использован метод изучения конкретных ситуаций: проведен анализ значения членства Узбекистана в Тюркском совете, проанализированы причины неучастия Украины в нем и т. д. В работе также использован метод сравнительного анализа: прослежено изменение отношения Турции к пантюркизму в разные периоды сотрудничества с тюркоязычными странами, проведено сравнение Тюркского совета и ОТГ и др.
Анализ. Распад Советского Союза предоставил условие для начала сотрудничества тюркоязычных стран. С тех пор тюркоязычные страны прошли четыре этапа в построении механизмов сотрудничества.
Первый этап (1991–2008 гг.): адаптация к идентичности и неустойчивое сотрудничество тюркоязычных стран.
Анкара определила главной целью превращение Турции в глобальное государство в XXI веке. Для этого Турция должна стать некой моделью прежде всего для тюркоязычных стран Евразии и региональным лидером. В октябре 1992 г. главы шести тюркоязычных стран собрались в Анкаре, чтобы созвать первый Саммит глав тюркоязычных государств (далее – СГТГ) [21]. С тех пор СГТГ стал главным механизмом сотрудничества тюркоязычных стран. В период с 1992 по 2010 г. было проведено всего 10 саммитов. Хотя на каждой встрече главы призывали к укреплению сотрудничества в политической, экономической, культурной и безопасной областях и подписывали ряд деклараций, меморандумов и т. д., но лишь немногие из них были реализованы. Причин такого результата четыре:
-
1) Влияние пантюркизма. В 1990-е гг. сотрудничество Турции с другими тюркоязычными странами и регионами всегда было сопряжено с духом пантюркизма, что представляет собой результат не только длительного развития пантюркизма во внутренней и внешней политике Османской Турции, но и попытки турецкого правительства создать «тюркский союз» под своим патронатом. В советский период пантюркизм подвергался жесткой критике и даже силовому давлению. Первые лидеры новых независимых тюркоязычных стран Евразии, которые выросли в советский период, относились к пантюркизму более или менее скептически и даже критически.
-
2) Изменения в сфере национального самосознания Турции. Во время холодной войны Турция была важной страной в усилиях НАТО по подрыву Советского Союза на Кавказе и в Центральной Азии. Одним из способов было разжигание сепаратистских настроений среди тюркоязычных народов в Советском Союзе. После окончания холодной войны западные страны разошлись во мнениях относительно роли Турции, чья мечта вступить в Европейский союз все больше проваливалась. Свою линию поддержки Турции проводили США и Англия. Цель американской политики – ослабление Западной Европы (прежде всего Франции и Германии) как возможного геополитического конкурента на Кавказе (и в Центральной Азии), а также вытеснение России из региона [9, c. 305]. Появление в это
время нескольких независимых тюркоязычных стран подхлестнуло амбиции Турции на статус великой державы и более активный интерес к Востоку. Факты свидетельствуют о том, что тогдашняя Турция проявила себя как «старший брат» в «тюркском мире», относясь к другим государствам, как к «младшим братьям», а не равноправным партнерам.
-
3) Адаптация и поддержание независимой государственной идентичности. После распада Советского Союза новые тюркоязычные страны встали на путь создания независимого государства. В процессе адаптации к своей новой идентичности они придавали большое значение независимости и суверенитету, и главным содержанием государственного строительства стало получение титульной нацией доминирующего положения во всех социальных сферах. Для сохранения новой идентичности отвергалось все, что может подорвать независимость и суверенитет государства, и все, что может ослабить статус титульной нации.
-
4) Нарушение системы образования в новых независимых государствах из-за распада Советского Союза. В 1990-е гг. в этих странах появилось ухудшение экономической ситуации, усиление этнических конфликтов и миграция русскоязычных жителей в Россию, большинство из которых были самыми молодыми и интеллигентными. Одним из результатов стала нехватка преподавателей в системе образования и снижение образовательного уровня в этих государствах, а Россия тогда не могла помочь им. Турция быстро заметила это. Образование стало приоритетным направлением сотрудничества тюркоязычных стран, но характеризовалось преимущественно турецким экспортом в другие тюркоязычные страны и регионы, причем не без пантюр-кистского компонента.
Второй этап (2009–2017 гг.): построение механизмов и расширение сотрудничества.
Настоящим механизмом сотрудничества тюркоязычных стран с точки зрения полноты, зрелости, эффективности и воздействия являлся Тюркский совет, созданный Турцией, Азербайджаном, Казахстаном и Кыргызстаном в 2009 году. После его создания в сотрудничестве тюркоязычных стран произошли явные изменения:
– Механизм стал лучше разработан и более зрелым. Тюркский совет трансформировал бывшую однообразную модель сотрудничества, опиравшуюся в основном на СГТГ, в комплексную с подчиненными и вспомогательными органами 2. Стоит отметить, что подчиненные и вспомогательные органы Тюркского совета не сосредоточены в одной стране во избежание доминирования какой-либо страны. Например, Секретариат находится в Стамбуле, Международная Тюркская академия – в Астане, Международная организация тюркской культуры – в Анкаре, а Парламентская ассамблея тюркоязычных государств – в Баку.
– Способ сотрудничества стал более разнообразным. До создания Тюркского совета сотрудничество тюркоязычных стран было преимущественно двусторонним, что подчеркивалось сотрудничеством Турции с другими тюркоязычными странами. После его создания более активно развивалось многостороннее сотрудничество. Тюркский совет, координируя интересы и отношения своих членов, выразил общую позицию по ряду актуальных международных и региональных вопросов и начал рассматривать свои отношения с ЕАЭС, ШОС, инициативой «Пояс и путь» и т. д. В целом он стал новой региональной организацией в Евразии.
– Был достигнут прорыв в сфере сотрудничества. До создания Тюркского совета сотрудничество тюркоязычных стран осуществлялось в основном в области образования и культуры, а сотрудничество в экономической и политической областях часто имело больше декларативный эффект, чем практический. После его создания их сотрудничество не только продолжалось в области культуры и образования, но и глубже распространялось на сферы экономики, политики, безопасности, военного дела, науки и техники, транспорта, таможни и туризма и т. д.
На этом этапе сотрудничество тюркоязычных стран характеризовалось следующими особенностями. Во-первых, создание Тюркского совета ознаменовало собой первый случай, когда идея интеграции тюркского мира получила физический механизм спустя 20 лет после распада Советского Союза [24]. Тюркский совет можно считать достаточно полно- ценным интеграционным проектом, который не только координирует действия стран-участниц на международной арене, но и ставит цель – упрощение таможенных и транзитных процедур, а также объединение усилий силовых органов в борьбе с международным терроризмом [22]. Во-вторых, сближение Турции с тюркоязычными странами Евразии происходит не вследствие распространения абстрактных идей пантюркистской идеологии, а благодаря конкретным экономическим, политическим, военным и иным интересам сторон [9, c. 308]. Анкара надеется повысить свою роль в региональных и международных делах и войти в круг великих держав на основе укрепления сотрудничества с тюркоязычными странами Евразии, которые надеются через Турцию установить тесные контакты с Западом и получить финансовые инвестиции, а также найти рынки для сбыта своих сырьевых и энергоресурсов [19, c. 36–37]. В-третьих, роль Казахстана в развитии сотрудничества тюркоязычных стран становится еще более очевидной, и координация между Анкарой и Астаной является важной гарантией создания механизмов сотрудничества. В-четвертых, расширение способа сотрудничества от двустороннего до многостороннего и прорыв в сфере сотрудничества тюркоязычных стран побуждали Россию и Китай уделять больше внимания Евразии.
Третий этап (2018 – ноябрь 2021 г.): расширение членства и геополитический баланс.
Тюркский совет был создан в октябре 2009 г., тогда Туркменистан отказался присоединиться к нему по причине позитивного нейтралитета во внешней политике. Узбекистан также не вступил в него из-за сложных отношений с Россией, Турцией и Казахстаном. Например, тогдашний президент И.А. Каримов соревновался с Н.А. Назарбаевым за региональное лидерство в Центральной Азии, что оказало негативное влияние на развитие отношений с Тюркским советом, где Казахстан уже имел преимущество. Некоторые ученые также утверждают, что Узбекистан и Туркменистан с глубоким подозрением относятся к пантюркистским попыткам Турции [24]. Однако эти две страны имели большое значение для Тюркского совета, поскольку в Узбекистане проживает половина тюркоязыч- ного населения Центральной Азии, а Туркменистан занимает четвертое место в мире по величине разведанных запасов природного газа [5], и его экономический потенциал нельзя недооценивать. Нехватка представительства являлась основным препятствием для развития Тюркского совета. Расширение членства было поставлено на повестку дня после провозглашения экс-президентом Турции А. Гюль лозунга «Шесть государств – одна нация» на 10-м СГТГ в сентябре 2010 года. Сначала, в сентябре 2018 г., Венгрия получила статус наблюдателя, затем в сентябре 2019 г. Узбекистан вступил в Тюркский совет в качестве члена. 12 ноября 2021 г. Туркменистан стал государством-наблюдателем ОТГ – бывшего Тюркского совета.
Вступление Узбекистана в Тюркский совет являлось важным событием в укреплении сотрудничества тюркоязычных стран, что не только придало новый импульс деятельности Тюркского совета и повысило его важность в Евразии, но и обеспечивало внутренний и внешний геобаланс в сотрудничестве тюркоязычных стран. Во-первых, Узбекистан является «хребтом» Центральной Азии [6], граничащим не только со всеми странами региона, но и с Афганистаном. Его включение значительно разнообразило повестку дня Тюркского совета. Во-вторых, Узбекистан с населением 36 миллионов человек является самой большой страной в регионе, его включение значительно увеличило количество тюркоязычного населения в Тюркском совете и изменило прежнюю ситуацию, когда в совете доминировали 80 миллионов турок и 10 миллионов азербайджанцев на западном крыле, придав совету внутренний баланс на восточном и западном крыльях [8]. В-третьих, присоединение Узбекистана значительно усилило экономическую, политическую и военную мощь Тюркского совета и укрепило его способность конкурировать с другими региональными и международными организациями в Евразии.
При расширении членского состава Тюркский совет соблюдал следующие принципы. Во-первых, объект расширения членства имел специфический характер. Тюркский совет, основанный на общности истории, культуры, самобытности и языка, ориентировал на объе- динение всех тюркоязычных стран, поэтому Узбекистан и Туркменистан были главными объектами ее расширения. Во-вторых, ключ к успеху в расширении членства состоит из двух частей: с одной стороны, рассмотрение страной-объектом последствий расширения для своих национальных интересов и, с другой стороны, оценка Тюркским советом тех выгод, которые он может извлечь для себя в результате расширения. Например, Украина стремилась вступить в Тюркский совет с целью разделения этнических связей украинцев со славянами, решения крымского вопроса, развития экономики и получения внешней помощи, но на просьбу Украины Тюркский совет откликнулся отрицательно из-за напряженности в отношениях между Россией и Украиной и бдительности России в отношении сотрудничества тюркоязычных стран. В-третьих, стратегия выравнивания являлась важным соображением Турции в процессе расширения членского состава Тюркского совета. На втором этапе «двуглавое руководство» в Тюркском совете стало все более очевидным с усилением роли Казахстана в сотрудничестве тюркоязычных стран. Присоединение Узбекистана и Туркменистана в определенной степени ослабило роль Казахстана. В-четвертых, расширение членства способствовало повышению статуса Тюркского совета. Географическое расширение партнеров вскоре привело к увеличению могущества Тюркского совета. С ростом могущества лидеры основных тюркоязычных стран стали недовольны статусом Тюркского совета как межправительственной организации и начали претендовать на его продвижение.
Четвертый этап (с ноября 2021 г.): продвижение механизма и тенденции сотрудничества.
Тюркский совет – это межправительственная организация, чей внутренний динамизм значительно усилился после институционализации и расширения членства. Следующим шагом должно стать повышение своей внешней конкурентоспособности. 12 ноября 2021 г. в Стамбуле состоялся 8-й Саммит глав государств Тюркского совета, на котором было принято решение повысить статус Тюркского совета до международной организации, переименовав его в ОТГ. Турция, Азербайд- жан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан по-прежнему являются членами ОТГ, а Венгрия и Туркменистан – наблюдателями.
ОТГ продолжает сохранять институциональные механизмы Тюркского совета, одновременно и планирует создать ряд новых органов. Эта тенденция уже продемонстрирована на 9-м саммите ОТГ, состоявшемся в ноябре 2022 г. в Самарканде. Кроме того, существуют еще четыре тенденции в развитии сотрудничества тюркоязычных стран. Во-первых, сотрудничество перейдет к более обязывающей структуре, гарантированной ОТГ. Подписанные документы «Протокол о внесении изменений в Нахичеванское соглашение», «Правила процедуры Организации Тюркских государств», «Стратегия Организации тюркских государств на 2022–2026 годы» придают ОТГ более правовой характер на международном уровне. Во-вторых, геополитическое расширение в предстоящий период будет происходить в основном в форме включения государств-наблюдателей. В «Самаркандской декларации» написано, что стороны «рассматривают турецких киприотов как часть тюркского мира и приветствуют статус ТРСК в качестве наблюдателя ОТГ» [32], хотя это предложение не получило полной поддержки тюркоязычных стран Центральной Азии. В-третьих, продолжая сотрудничество в культурной, образовательной и экономической областях, ОТГ будет укреплять работу в политической и военной областях. Например, одним из приоритетов в работе ОТГ за последние годы являются распространение в средних школах учебников «Общая тюркская история», «География тюркского мира» и «Общая тюркская литература» и создание единого тюркского алфавита на основе латиницы. Что касается военной области, то ОТГ выражает озабоченность в связи с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха, «январскими беспорядками» в Казахстане и Афганской проблемой, демонстрируя свою решимость бороться со всеми формами терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков, сепаратизма, дискриминацией, ксенофобией, дезинформацией и др. В-четвертых, как координировать свои действия с третьими странами, такими как Россия, и международными организациями станет одним из направлений усилий ОТГ, а формирование партнерского статуса является ее целью.
Результаты. Распад Советского Союза предоставил условие для возрождения пантюркизма в Евразии. Турция увидела возможность получения статуса великой державы, активно развивая отношения с новыми независимыми тюркоязычными странами и создавая общую концепцию «тюркского мира». До сих пор процесс создания тюркоязычными странами механизмов сотрудничества прошел четыре этапа. На первом этапе (1991–2008 гг.) основным механизмом укрепления сотрудничества Турции с другими тюркоязычными странами являлся СГТГ, цель которого заключалась в создании «тюркского союза» под эгидой Турции, ориентированной на утверждение статуса важной силы в новой геополитической конкуренции Евразии. Однако уровень их сотрудничества оказался ниже ожиданий Турции под влиянием пантюркизма и адаптации новых стран к своей идентичности. Тем более не был создан зрелый механизм с обязательной силой. На втором этапе (2009– 2018 гг.) Тюркский совет стал важной межправительственной организацией по сотрудничеству четырех тюркоязычных стран. Его создание ознаменовало собой первый случай, когда идея интеграции «тюркского мира» получила физический механизм, так что способ их сотрудничества стал более разнообразным, сферы сотрудничества расширились и Турция стала важным участником Большой игры в Евразии. На этом этапе фанатизм Турции и обеспокоенность других тюркоязычных стран по поводу пантюркизма ослабевали, а прагматические государственные интересы стали целью их сотрудничества. Роль Казахстана в развитии их сотрудничества стала еще более очевидной. На третьем этапе (2018 – ноябрь 2021 г.) в Тюркский совет были включены Узбекистан, Туркменистан и Венгрия путем расширения членства, что повысило его силы и обеспечивало внутренний и внешний геобаланс. Причем расширение членства соответствовало Турецкой стратегии выравнивания между другими тюркоязычными странами. На четвертом этапе (с ноября 2021 г.) для повышения своей внешней конкурентоспособности Тюркский совет был переименован в ОТГ – региональную международную орга- низацию. В настоящее время наблюдается ряд новых тенденций в сотрудничестве тюркоязычных стран. Особенно разработан план по установлению партнерского статуса для третьих стран и других международных организаций.
За последние 33 года сотрудничество тюркоязычных стран приобрело новое измерение и практику. Более того, в дискурсе сотрудничества тюркоязычных стран произошли коренные изменения. В 1990-е гг. снижение влияния пантюркизма на сотрудничество тюркоязычных стран и опасения аутсайдеров по этому поводу вскоре стали важной частью формирования дискурса в Турции. Теперь изменились логика повествования об их сотрудничестве, субъекты и содержание дискурса. Субъекты дискурса сначала распространились с Турции на Казахстан и Азербайджан, затем продолжили распространяться на все тюркоязычные страны. Логика их повествования изменилась так: сначала от оправдания отсутствия пантюркистского характера в их сотрудничестве к подчеркиванию необходимости и важности их сотрудничества, затем к расширению содержания и продвижению механизма сотрудничества на основе соблюдения норм и принципов международного права. В настоящее время тюркоязычные страны начинают в качестве региональной международной организации заявлять о себе на международной арене и определять свои отношения с другими странами и организациями.
Следует подчеркнуть, что роль Турции в сотрудничестве тюркоязычных стран имеет важное, но не единственное значение, потому что роль пантюркизма и активность других тюркоязычных стран изменились. Главным фактором, влияющим на текущее и будущее сотрудничество тюркоязычных стран, являются государственные интересы этих стран, а не пантюркизм. По сути, все страны осуществляют многовекторную дипломатию, которая, как ожидается, будет в максимальной степени отвечать своим интересам. Укрепление сотрудничества и создание механизмов тюркоязычных стран – это лишь одно из направлений их внешней политики. Тот, кто может принести наибольшие выгоды для тюркоязычных стран Евразии, способен занять преимущественное положение в выборе ими объектов сотрудничества. Так же обстоит дело и с Турцией, которая более активно сотрудничает с тюркоязычными странами Евразии именно потому, что Анкара видит возможность достижения своих государственных интересов. Необходимо изменить традиционный подход к анализу нынешнего положения и перспектив сотрудничества тюркоязычных стран с точки зрения пантюркизма, а заменить его анализом прагматических государственных интересов.
С точки зрения развития механизмов сотрудничества одним из наиболее значимых факторов, влияющих на реализацию стратегии сотрудничества Турции, является позиция тюркоязычных государств Центральной Азии. То же самое касается и будущего. Во-первых, государственные интересы тюркоязычных стран Центральной Азии не всегда совпадают, а иногда даже противоречат друг другу. На протяжении многих лет двусторонние отношения между ними сопровождаются неразрешимыми противоречиями (например, пограничные территориальные споры Узбекистана и Кыргызстана, борьба за региональное лидерство Казахстана и Узбекистана). Данные противоречия также являются важным фактором, влияющим на дальнейшее углубление их многостороннего сотрудничества. Во-вторых, эти страны имеют разные ожидания от ОТГ и вряд ли могут служить общим интересам тюркского мира. Возрастание роли Казахстана в качестве региональной державы, стремление Кыргызстана к сбалансированной внешней политике, усиление Узбекистаном культурно-исторического влияния в тюркском мире не только трудно удовлетворить одновременно, но и мешает углублению многостороннего сотрудничества. В-третьих, Узбекистан и Туркменистан не проявляют активности по многим вопросам сотрудничества тюркоязычных государств, таким как использование в школах единых учебников.
Реальность показывает, что тенденция к усилению сотрудничества тюркоязычных стран уже стала необратимой. В настоящее время их сотрудничество находится на самом высоком уровне, особенно они создали свою региональную международную организацию – ОТГ. Данные явления свидетельствуют об успешном осуществлении Турцией стратегии сотрудничества в тюркоязычных странах, которые, опираясь на созданные ими механизмы, обладают огромным потенциалом для того, чтобы стать одним из полюсов в многополярном мире, однако ни одна тюркоязычная страна, включая Турцию, не может сделать это в одиночку.
Список литературы Механизмы сотрудничества тюркоязычных стран в период с 1991 по 2022 год
- Аватков В. А. Постсоветское пространство и Турция: итоги 30 лет // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2021. № 5. C. 162–176. DOI: 10.23932/2542-0240-2021-14-5-8
- Барсегов Ю.Г. Геополитическая угроза России с Юга. М.: [б. и.], 1996. 26 c.
- Башкурт М. Дорожная карта социально-экономического сотрудничества тюркоязычных государств // Экономика. 2014. № 2 (2). C. 51–55.
- Варбанец П. Станет ли тюркский союз альтернативой вступлению Турции в ЕС? // Центральная Азия и Кавказ. 2009. № 1 (61). C. 64–71.
- Виктор Катона. Ресурсы Каспийского региона: Туркменистан, Казахстан, Иран и Россия. Российский совет по международным делам. 25.09.2017. URL: https://russiancouncil.ru/analyticsand-comments/analytics/resursy-kaspiyskogoregiona-turkmenistan-kazakhstan-iran-i-rossiya/
- Виктор Ким. Роль Узбекистана в развитии региональных транспортных коммуникаций неоспорима. Медиа группа «ASIA-Plus». 24.09.2020. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/opinion/20200924/rol-uzbekistana-v-razvitii-regionalnihtransportnih-kommunikatsii-neosporima?ysclid=ls5i5sqiwg649403982
- Гасанова А. Б. К. «Неопантюркизм» и Организация Тюркских Государств // Запад – Восток – Россия 2021. Ежегодник. М.: Нац. исслед. ин-т мировой экономики и междунар. отношений им. Е.М. Примакова РАН, 2022. С. 52–56.
- Гасанова М. Взгляд из Баку: Узбекистан в Тюркском совете // IA REGNUM. 16.09.2019. URL: https://regnum.ru/news/2720737.html
- Мкртычян А. А. Пантюркизм в геостратегии Турции на Кавказе как глобальная проблема современных международных отношений (Политологический анализ): дис. ... д-ра полит. наук. М., 2003. 343 c.
- Надеин-Раевский В. А. История пантюркизма и его современные сторонники. Ч. 1. Пантюркизм: основные вехи истории // Перспективы: электрон. журн. 2022. № 1 (28). С. 62–73. DOI: 10.32726/2411-3417-2022-1-62-73
- Надеин-Раевский В. А. История пантюркизма и его современные сторонники. Ч. 2. Новый этап пантюркистских надежд // Перспективы: электрон. журн. 2022. № 2 (29). С. 94–108. DOI: 10.32726/2411-3417-2022-2-94-108
- Пан Жипин. О Турции и пантюркизме // Исторические исследования. 2004. № 4. С. 60–68. (In Chinese).
- Парубочая Е. Ф. Саммиты тюркских государств (2006–2010 гг.): реальная платформа для сближения стран // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. 2011. № 2 (20). С. 98–105.
- Сабирова Л. А., Сюткин Е. П. Пантюркизм как политическая угроза России // NovaInfo. 2019. № 99. С. 81–86.
- Сабов И. Н. Имиджевое позиционирование Турции в Центральной Азии: проблемы институционализации интеграции тюркского мира // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. 2021. Т. 21, № 3. С. 197–203.
- Саякова С. Ш., Башкурт М. Диагностика социально-экономической интеграции тюркоязычных государств // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2016. № 7. C. 131–134.
- Сман А., Дусанбекова М. А., Гахарманова Н. Б. О некоторых аспектах создания и деятельности Организации тюркских государств // Danish Scientific Journal. 2022. № 65. С. 17–22. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7270335
- Хоу Айцзюнь. Движение «Неопантюркизма» и идеологическая безопасность Китая: вызовы и ответы // Исследования международной безопасности. 2016. № 2. С. 125–146. (In Chinese). DOI: 10.14093/j.cnki.cn10-1132/d.2016.02.006
- Чесноков А. В. Пантюркизм в общественно-политической жизни Азербайджана и тюрко-язычных стран Центральной Азии (90-е гг. XX – начало XXI в.): дис. ... канд. ист. наук. Иваново, 2005. 195 с.
- Чжан Юйянь. Демистификация плана Тюркского мира // Хуаньцю. 2021. № 24. С. 30–31. (In Chinese).
- Чжэн Цзиньфа. Первый Саммит глав тюркских государств // Еженедельник Outlook. 1992. № 46. P. 41–42. (In Chinese).
- Шангараев Р. «Армия Турана» – проект Турции по военной интеграции тюркского мира: угрозы и перспективы // Обозреватель. 2021. № 7 (378). С. 70–84. DOI: 10.48137/2074-2975_2021_7_70
- Южаков В. А. Тюркскому совету 10 лет: оценка перспективы интеграции с ЕАЭС и Россией // Мировое и национальное хозяйство. 2020. № 2 (51). С. 1–17.
- Ян Бо. Об учебнике Общей тюркской истории // Вэньхуэй Бао. 15 октября 2015 г.(In Chinese). URL: http://www.m4.cn/opinion/2015-10/1289903.shtml
- Buyar C., Ünal U. Contribution of Organization of Turkic States Members to World Heritage at a Time of Cultural Convergence from the Past to the Future // Bilig. 2022. № 100. P. 1–35. DOI: 10.12995/bilig.10001
- Demir C. The Organization of Turkic States: Implications for the Regional Balance of Power // Güvenlik Stratejileri Dergisi. 2022. № 18. C. 39–71. DOI: 10.17752/guvenlikstrtj.1104776
- Kaplan M., Yuvacı A., Amanov S. One Nation, Many Voices? External Cohesion of the Turkic Council States in the United Nations General Assembly, 1993– 2011 // Bilig – Turk DunyasI Sosyal Bilimler Dergisi. 2015. № 74. P. 125–149.
- Keser A., Çütcü İ. and Eren M. V. Does Country-Level Governance Matter for National Development? An Analysis on the Founding States of Turkic Council // Applied Economics. 2022. № 5. P. 522–535. DOI: 10.1080/00036846.2021.1966373
- Kocaman Ö. Adjusting to the “New Normal” of Post COVID-19: The Role of Organization of Turkic States in Multilateral Cooperation // Perceptions: Journal of International Affairs. 2022. № 26. P. 189–215.
- Minasyan Nelli. The New Tendencies in Organizing the Process of Pan-Turkic Ideas: Cooperation Council of Turkic-speaking States // American Historical Review. 2016. № 5 (2). P. 2100–2106.
- Mustofaev M. The Organization of Turkic States: A New Approach to Global and Regional Challenges // Perceptions: Journal of International Affairs. 2022. № 27. P. 105–120.
- Samarkand Declaration of the Ninth Summit of the Organization of Turkic States. URL: https://www.turkicstates.org/assets/pdf/temel_belgeler/ninth-summit-declarataion-16-en.pdf
- Yesevi Ç. G. Examining the Organization of Turkic States: A Teacher and Norm-Creator // Perceptions: Journal of International Affairs. 2022. № 27. P. 2–25.
- Zeynvand Lorestani Hanzaleh et al. Presentation a Model of Leadership in the Organization of Turkic Languages Ethnic Based on the Lewis Cultural Model // Journal of Culture-Communication Studies. 2021. № 54. P. 233–256.