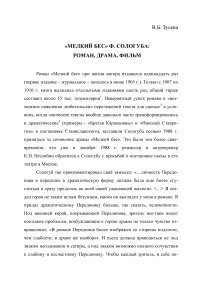«Мелкий бес» Ф. Сологуба: роман, драма, фильм
Автор: Зусева Вероника Борисовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Прочтения
Статья в выпуске: 2 (9), 2009 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14914151
IDR: 14914151
Текст статьи «Мелкий бес» Ф. Сологуба: роман, драма, фильм
Роман «Мелкий бес» при жизни автора издавался одиннадцать раз (первое издание – журнальное – началось в июне 1905 г.). Только с 1907 по 1910 г. книга выходила отдельными изданиями шесть раз; общий тираж составил около 15 тыс. экземпляров1. Невероятный успех романа и «возможное появление любительских переложений текста для сцены»2 в условиях, когда эпические тексты вообще довольно часто трансформировались в драматические3 (примеры – «Братья Карамазовы» и «Николай Ставрогин» в постановке Станиславского), заставили Сологуба осенью 1908 г. приняться за сочинение драмы «Мелкий бес». Это было тем более своевременно, что уже в декабре 1908 г. режиссер и антрепренер К.Н. Незлобин обратился к Сологубу с просьбой о постановке пьесы в его театре в Москве.
Сологуб так прокомментировал свой замысел: «…личность Передо-нова в переделке в драматическую форму должна была еще более сгуститься и сразу предстать во всей своей ужасающей жалости. <…> Я создал героя не таким истым безумцем, каким он выглядел у меня в романе. Я придал драматическому Передонову больше, так сказать, человечности. Под внешней корой, покрывающей Передонова, зритель все-таки видит кое-какие проблески, возбуждающие к герою драмы не только чувство отвращения»; «В романе Передонов более изображен со стороны подлости, чем слабости; в драме же наоборот. И пьеса должна проводиться не под знаком негодования и сатиры, а под знаком возможно полного сочувствия к слабому и несчастному Передонову. Чтобы каждый зритель, в себе по- чувствовав хоть частицу передоновщины, сжалился бы над ним и не его одного обвинил в передоновщине. Под знаком сочувствия должны быть и другие действующие лица. Чтобы каждая женщина могла понять и почувствовать, что она – в худших своих возможностях – Варвара, в лучших – Людмила»4.
Таким образом, Сологуб поставил перед собой задачу, которая, хотя и отвечала общему направлению театральных исканий того времени (а именно – прочь от психологической определенности и монолитности пер-сонажей5), сама по себе была парадоксом: она переворачивала традиционное соотношение романа и драмы. Первый обычно располагал бóльшими возможностями для изображения сложности и неоднозначности характера героя, его внутренних изменений, тогда как другая заостряла конфликт двух правд (или «правды» и «лжи»), персонифицированных в противостоящих друг другу действующих лицах. Сологуб попытался сделать все наоборот и показать внутреннюю трансформацию Передонова именно в драме.
Удачной ли была эта попытка? Да и могла ли она в принципе быть удачной? Ответ на первый вопрос, в общем, достаточно однозначный. Как реакция публики и современных Сологубу литературных критиков, так и позднейших исследователей показывает, что переделка романа в пьесу оказалась художественно неубедительной. А вот с ответом на второй вопрос не следует торопиться: фильм Николая Досталя «Мелкий бес» (1995), преследуя те же цели, что и сологубовская драма, оказался конгениальным роману6. Собственно, задача данной статьи – прояснить причины, по которым замысел драмы не был реализован с достаточной художественной убедительностью, тогда как фильм, созданный посторонним исходному тексту (т.е. роману «Мелкий бес») режиссером, открыл уходящую в бесконечную смысловую даль перспективу сологубовского произведения. Для этого нам придется сравнить структуру романа, драмы7 и фильма, особое внимание уделяя системе персонажей.
Собственно событийный ряд везде сохраняется примерно в одном и том же виде. Провинциальный учитель Ардальон Борисович Передонов, сожительствующий со своей троюродной сестрой Варварой, одержим желанием, постепенно превращающимся в навязчивую идею, получить место инспектора гимназии. Варвара пользуется этим, чтобы женить на себе Пе-редонова, и сочиняет фальшивое письмо от лица княгини Волчанской, которая якобы обещала Варваре место инспектора для ее мужа. В итоге ей удается обмануть Передонова, который к этому времени окончательно сходит с ума и видит повсюду «мелкого беса» – Недотыкомку. В финале романа Передонов убивает своего приятеля Володина (а в фильме Досталя – и Варвару), заподозрив того в желании «подменить» его собой и самому стать инспектором. Параллельно разворачивается другая сюжетная линия, связанная с сестрами Рутиловыми и гимназистом Сашей Пыльниковым, которого спятивший Передонов подозревает в том, что он «девчонка» и якобы хочет развратить всю гимназию. Людмила Рутилова и Саша Пыльников переживают историю первой любви, которая, однако, описана в довольно специфических тонах и дает основания для различных толко-ваний8, порой далеко не сочувственных. Обе сюжетные линии, сливающиеся в кульминационной сцене маскарада, развиваются на фоне тупой и грязной провинциальной жизни, чья гротескная пошлость обретает черты алогизма и безумия.
По нашему мнению, ключом к пониманию романа является соотношение и взаимоосвещение двух указанных сюжетных линий, которые, по замыслу автора, должны быть как бы двумя полюсами изображенного мира. Первый из них, беспросветно низкий, представлен линией Передонов – Варвара с примыкающими к ним второстепенными персонажами (Володин, Грушина, Ершова, Вершина и т.д.). Это полюс грязи реальной (быто- вой) и метафизической (душевной), полюс тупости, извращенного сладострастия, жестокости и безумия. Черты эти свойственны не только главному герою, но именно в нем сгущаются до предела.
Так, при характеристике Передонова постоянно подчеркиваются «равнодушно-сонное выражение» лица9, «тупость» (с. 30), угрюмость, которые легко сменяется «свирепостью» и злорадством. Смех у Передонова вызывают только «поганые» мысли, которые характеризуются повествователем как «паскудные детища его скудного воображения» (с. 40). Мертвенность, автоматичность реакций – еще одно неотъемлемое свойство этого персонажа: «Механически, как на неживом, прыгали на его носу золотые очки и короткие волосы на его голове» (с. 31). Как настоящий бес, Пе-редонов все вокруг себя хочет извратить и умертвить: «Его чувства были тупы, и сознание его было растлевающим и умертвляющим аппаратом. Все доходящее до его сознания претворялось в мерзость и грязь. В предметах ему бросались в глаза неисправности и радовали его. Когда он проходил мимо прямостоящего и чистого столба, ему хотелось покривить его или испакостить. Он смеялся от радости, когда при нем что-нибудь пачкали. <…> Быть счастливым для него значило ничего не делать и, замкнувшись от мира, ублажать свою утробу» (с. 75).
Одним из важнейших мотивов романа является мотив «попранной и поруганной красоты» (с. 51), ярко проявляющий себя в совместной жизни Передонова и Варвары: «Хотя Варвара шаталась от опьянения и лицо ее во всяком свежем человеке возбудило бы отвращение своим дряблопохотливым выражением, но тело у нее было прекрасное, как тело у нежной нимфы, с приставленною к нему, силою каких-то презренных чар, головою увядающей блудницы. И это восхитительное тело для этих двух пьяных и грязных людишек являлось только источником низкого соблазна» (с. 51). «Поруганная телесная красота» – общее свойство мира в «Мелком бесе»: «Все так смело открытое у Грушиной было красиво, – но какие противоречия! На коже – блошьи укусы, ухватки грубы, слова нестерпимой пошлости» (с. 222).
С другой стороны, зачарованный мир, который создают для себя Людмила и Саша, характеризуется, казалось бы, противоположными свойствами: юности, душевной неиспорченности, грации и красоты, хотя и понятой в соответствии со вкусами провинциального городка (недаром Блок назвал этих персонажей «заоблачными мещанами, небесными обывателями»). Людмилу всегда сопровождает ощущение радости бытия: «Она весело улыбалась, быстро шла к дому Коковкиной и шаловливо помахивала белою сумочкою и белым зонтиком. Теплый осенний день радовал ее, и казалось, что она несет с собою и распространяет вокруг себя свойственный ей дух веселости» (с. 129). Такова же и обстановка в ее комнате: «В Людмилиной горнице было просторно, весело и светло от двух больших окон в сад, слегка призадернутых легким желтоватым тюлем. Пахло сладко. Все вещи стояли нарядные и светлые» (с. 134). Отношения ее с Сашей проникнуты неподдельной нежностью: «Он [Саша] увидел, что она вытирает щеки руками, робко подошел к ней и заглянул ей в лицо, – и слезы, которые текли по ее щекам, вдруг отравили его нежною к ней жалостью…» (с. 206).
Однако очевидное противопоставление двух полюсов осложняется глубоко лежащими мотивами тайного родства. Так, исследователи неоднократно отмечали черты бесовства, присущие как сестрам Рутиловым, так и Саше Пыльникову. Как показывает З. Г. Минц, «сестры Рутиловы сопоставляются с ведьмами, их безудержное веселье – с шабашем: “…в миг все четыре сестры закружились в неистовом радении, внезапно объятые шальною пошавою, горланя за Дарьею глупые слова новых да новых частушек <…> Сестры были молоды, красивы, голоса их звучали звонко и дико, – ведьмы на Лысой горе позавидовали бы этому хороводу”»10. На маскараде Людмила, переодетая цыганкой, издевается над Передоновым, поощряя его безумные страхи: «Ай, барин мой бриллиантовый, – гадала Людмила, – врагов у тебя много, донесут на тебя, плакать будешь, умрешь под забором» (с. 227).
Сашу Пыльникова Грушина называет «оборотнем»; по замечанию М.М. Павловой, «подобно Недотыкомке Саша остается неуязвимым для Передонова <…>; оба не узнаны Передоновым на маскараде: Саша в “платье желтого шелка на красном атласе” и огненная Недотыкомка»11. Между тем, как показал В.И. Тюпа, красный и желтый – традиционные цвета Арлекина, веселого плута западноевропейской народной комедии, который по своему происхождению является «мистериальным дьяволом, трансформировавшимся впоследствии в веселого карнавального черта» (об этом свидетельствует рогатая маска первых Арлекинов, преобразившаяся впоследствии в «двурогий» колпак)12. Другая параллель к образу Саши – библейский змей-искуситель из сна Людмилы, т.е. тоже в конечном счете сам Дьявол. Таких «демонологических» отсылок в романе можно найти еще очень много. «В образах всех героев, без исключения, отмечены черты бе-соподобия…»13.
Таким образом, несмотря на четко заданное противопоставление двух пар персонажей (Передонов – Варвара, Саша Пыльников – Людмила), между ними есть тайное сходство. Однако Сологуб предпочитает не развивать и не эксплицировать его. Если образ Передонова остается главным источником и воплощением зла (хотя в то же время и его жертвой14), то Людмила и Саша – самым светлым, что может существовать в описанном в романе мире. Моральная ответственность с этих героев, отношения между которыми этически небезупречны, как бы снимается тем, что они эстетически совершенны: в них Красота получает свое полное воплощение, в отличие от других персонажей, максимально от нее удаленных.
И хотя ростки иного отношения пробиваются как в прямых оценках повествователя15, так и в скрытых подтекстах16, в итоге противопоставле- ние одерживает верх над сближением полюсов (т.е. двух пар персонажей). Нет мотива перехода, трансформации: Передонова и Варвару, какими они представлены в романе, невозможно вообразить в роли Саши и Людмилы, хотя, предположительно, они и не всегда были такими, какими являются перед глазами читателей. Роман показывает падение в бездну и невозможность духовного воскресения, раскаяния и просветления (особенно в свете позднейших упоминаний Сологуба о судьбе Передонова17); у одних героев это падение окончательное, перед другими еще расстилается долгий путь, характеризующийся моральной неоднозначностью. Создается впечатление, что сам автор, увлекавшийся, как и многие писатели Серебряного века, идеей «святой плоти», так и не определил окончательно свою позицию, что, конечно, не могло не отразиться на построении системы персонажей и сюжете. Именно поэтому линия Передонова завершается вполне предсказуемо и однозначно – безумием и убийством, а линия Саши Пыль-никова уходит в даль, не получая разрешения на страницах романа.
Переделывая роман в драму, Сологуб изменил и расстановку действующих лиц, что не могло не повлиять на смысловой итог произведения. Впрочем, автор на это и рассчитывал, стремясь создать пьесу «под знаком сочувствия» Передонову. Но каким способом он пытался осуществить это намерение? Прежде всего, в отличие от романа, Сологуб хотел показать читателям (зрителям) историю падения Передонова, которая бы убедила их, что он не всегда был таким, как теперь, что он не воплощение абсолютного зла, а его жертва. Эта мысль, присутствовавшая еще в романе (хотя и в ослабленном виде), в драме должна была выйти на первый план. Но, увлекшись этой идеей (и, кроме того, опасаясь запрета пьесы цензурой), Сологуб до предела сократил сцены с Сашей и Людмилой, оставив краткие и ничего не значащие диалоги, по сути представляющие собой лишь рудименты этой сюжетной линии. Тем самым автор нарушил тот ба- ланс, на котором держалось все произведение.
Собственно, как можно показать на сцене за крайне ограниченное время действия пьесы становление героя, его внутреннюю трансформацию? Есть несколько путей, из которых Сологуб выбрал наименее удачный, а именно – отсылки в разговорах действующих лиц к тем моментам прошлого, которые бы освещали героя с иной стороны, чем он показан в сценическом действии. Чем плох этот прием? Дело в том, что образ героя, создаваемый в разговорах персонажей и ничем не поддержанный в «сценическом настоящем», вступает в противоречие с его образом, явленным в действии. Контраст между двумя ипостасями героя – во внесценическом прошлом и сценическом настоящем – оказывается слишком велик. Так, Передонов, чьи гнусности в изобилии явлены уже в I действии (тайное пожирание изюма и сваливание своей вины на прислугу, плевок Варваре в лицо, порча стен в наемной квартире, откуда Передонов собирается съезжать, сжигание «запрещенных» книг), не ассоциируется в сознании зрителя с тем, о ком гимназисты на маскараде (которых, кстати, непонятно, как вообще туда допустили) говорят так: «– Мне верный человек говорил, в канцелярии бумагу видел – директор донес попечителю округа, что Пере-донов сошел с ума. Говорят, что оттуда пришлют комиссию его освидетельствовать, а потом уберут из гимназии.
– Жаль парня. Кончившие говорят, что прежде он хороший учитель был…
– Говорят. Только знал мало и леноват всегда был, к урокам не готовился. Тетрадки просматривать Рутилова нанимал» (с. 319). Здесь бросается в глаза дидактический пафос: лень и отсутствие тяги к самообразованию приводят к тому, что Передонов становится плотью от плоти провинциального городишки, тупеет, наливается жиром и сходит с ума (последнее, кстати, неочевидно: та же коллизия в чеховском «Ионыче» отнюдь не приводит к соответствующему финалу). Примечательно, что в романе подоб- ные же мотивы явлены гораздо менее навязчиво и однозначно, чем в драме
(ср. абсурдный разговор с Веригой об университетских годах и конституции, которой Передонов желал, «но только без парламента, а то в парламенте только дерутся»).
Помимо отмеченных недостатков, драма проигрывает роману еще в одном отношении: Передонов предстает здесь абсолютно сумасшедшим с самого начала действия (Недотыкомка появляется почти сразу), тогда как в романе есть грань между предельной подлостью, которой Передонов, несомненно, наделен уже с первых страниц, и клиническим безумием, в итоге приводящим к убийству. Разумеется, безумие возбуждает сочувствие скорее, чем подлость (чего и хотел Сологуб), но драма таким образом теряет в динамике и смысловой наполненности.
Николай Досталь, экранизируя роман Сологуба, пошел другим путем. По-видимому, он тоже хотел показать историю падения героя, но сделал это куда более искусно, а именно – взяв за основу не до конца эксплицированное в романе и полностью отсутствующее в пьесе взаимоосвеще-ние двух сюжетных линий, связанных с двумя парами персонажей. Режиссер произвел перегруппировку в системе действующих лиц: вместо пар Передонов – Варвара и Людмила – Саша, связанных достаточно тесной, но не органической связью, он создал четырехугольник , где все четыре точки немыслимы друг без друга, и в то же время отказался от некоторых второстепенных линий и персонажей (например, от линии Марты и Влади – племянников Вершиной – и брата и сестры Адаменко).
Саша и Людмила стали Передоновым и Варварой в юности: на это недвусмысленно указывает сцена, в которой влюбленная пара тайком проникает в опустевший дом Передоновых, оскверненный кровопролитием (тогда как роман и драма, напомним, заканчиваются собственно сценой убийства). С любопытством и одновременно отвращением осматривая дом, они натыкаются на брошенный альбом, в котором Людмила видит фотографию Передонова в том возрасте, в каком сейчас находится Саша. Она отмечает необыкновенное сходство: «– Смотри, как похож! – Кто? – Ну, откуда я знаю? На тебя похож», хотя Саша недовольно отметает саму мысль об этом. Характерно, что и Людмила, и Пыльников прекрасно знают Передонова в лицо, но не могут совместить образ мальчика на фотографии с известным им взрослым мужчиной.
Оказавшись в спальне Передонова и Варвары, на их собственной постели Людмила и Саша в первый раз предаются страсти, причем в момент наивысшего блаженства Саша видит ту самую Недотыкомку, которая прежде свела с ума Передонова. Очевидно, это первое грехопадение проецируется на историю Передонова и Варвары, которые еще более отчетливо, чем в романе и драме, связываются со стихией бесовства. Так, описанные в романе «посиделки» у Передоновых в фильме превращаются в оргии с поклонением дьяволу: Володина в костюме фавна – с рогами и копытами – взгромождают на стол, вокруг которого начинаются дикие пляски. Кроме того, режиссер так подобрал актеров на главные роли, чтобы между ними было известное сходство. Вопреки данному в романе описанию внешности Саши как «глубокого брюнета» с черными глазами и иссиня-черными ресницами, Досталь взял на роль Пыльникова блондина с голубыми глазами. Кинематографический Передонов утрачивает обрюзглость и заплывшие глаза, зато получает тонкие черты лица. Таким образом, параллелизм историй Передонова и Пыльникова (которые в конечном итоге предстают разными стадиями одного процесса ) подчеркивается внешним сходством между ними. То же самое – в отношении Варвары и Людмилы; обе, в частности, обладают вьющимися рыжими волосами, которые якобы свойственны ведьмам (и апокрифической Лилит, первой – демонической – жене прародителя Адама).
Сопоставления между этими двумя парами можно разглядеть и в романе, но там они идут подтекстом. Например, для обеих линий характерен инцестуальный мотив. Передонов выдает Варвару за свою сестру, хотя все в городе знают об истинном положении вещей; так, в разговоре с Передо-новым Вершина «с легкою заминкою на слове “сестрица”» замечает: «Ваша… сестрица уж слишком пылкая особа». А Пыльников «неясно мечтает», чтобы Людмила была его сестрой: «Как она нежно целует! – мечтательно вспоминал Саша. – Точно милая сестрица». И рядом: «Если бы она была сестрою! – разнеженно мечтал Саша, – и можно было бы прийти к ней, обнять, сказать ласковое слово» (с. 133). Еще одно сближение между двумя линиями романа заключается в том, что Саша потихоньку начинает обращаться с Людмилой примерно так же, как Передонов с Варварой: «Уже он частенько называл ее Людмилкой, дурищею, ослицею силоам-скою, поколачивал ее» (с. 220).
Однако, как было сказано выше, отдельные мотивы, указывающее на сходство двух пар, Сологуб не приводит к логическому итогу. Зато это делает в своем фильме Николай Досталь. Таким образом, вся история приобретает цельность и телеологичность; это история грехопадения и возможного воскресения . Недаром фильм заканчивается сценой, в которой связанного смирительной рубашкой Передонова, необычайно похожего в этот момент на Христа, везут по бескрайнему полю на телеге, и он пытается совершить крестное знамение, с мольбой глядя в небо, окрашенное лучами заходящего солнца.
-
1 Павлова М.М. Творческая история романа «Мелкий бес» // Сологуб Ф. Мелкий бес / Сост., статья, комментарий М.М. Павловой. СПб., 2004. С. 643–883.
-
2 Там же. С. 807.
-
3 Причины этого явления – отдельная большая тема. Все же рискнем высказать предположение, что известная схематичность традиционной драмы, продиктованная ее родовыми свойствами (ограничения пространства и времени, острота и определенность конфликта противостоящих друг другу персонажей и их «правд»), заставляла деятелей театрального искусства Серебряного века искать усложненные формы представления мира и сознания в эпике и пытаться перекладывать их на язык театра. Разумеется, все это – наряду с художественными поисками в других направлениях (как, например, собственно символистская драма).
-
4 Цит. по изд.: Павлова М.М. Творческая история романа «Мелкий бес». С. 816.
-
5 Эта «психологическая определенность и монолитность» не исключала многогранности образов, но сводила их, так сказать, к «одному измерению», к пребыванию всецело в мире объективной действительности, тогда как театр Серебряного века, даже не символистский, несомненно, тяготел к проникновению за внешние покровы бытия («покрывало Майи»).
-
6 Мы «уравниваем» здесь пьесу и кинофильм лишь в противопоставлении их повествовательному тексту романа. Ведь «во всяком искусстве, связанном со зрением и икони-ческими знаками, художественное время возможно лишь одно – настоящее» ( Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллинн, 1973), хотя киноязык обладает гораздо бóльшими возможностями для передачи прошлого, будущего и «ирреальных наклонений», нежели язык театра. Кроме того, единственной драматической и кинематографической формой изображения является исполнение, подразумевающее совпадение изображающего слова исполнителя и изображаемого слова героя; здесь нет столь важного для эпики взаимоосвещения авторского и чужого слова с помощью сочетания внешней и внутренней языковых точек зрения.
-
7 Детальный сравнительный анализ романа и драмы уже существует. См.: Герабан Д. К поэтике повествовательной и драматической модели мира в романе и пьесе Ф. Сологуба «Мелкий бес» // Studia Russica II. Budapest, 1979. P. 171–186.
-
8 Так, если А.А. Блок видел в отношениях Людмилы и Саши «родник нескудеющей чистоты и прелести», то большинство исследователей, в том числе М.М. Бахтин, оценивают их как один из ликов передоновщины, приобщение к миру Дьявола (эту точку зрения обнаруживаем и в фильме Н. Досталя). См., например: Ерофеев В. На грани разрыва. «Мелкий бес» Ф. Сологуба и русский реализм // Ерофеев В. В лабиринте проклятых вопросов. М., 1990. С. 79–100; Минц З.Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов // Блок и русский символизм: Избранные труды: В 3 кн. СПб., 2004. Кн. 3: Поэтика русского символизма. С. 59–96; Венцлова Т. К демонологии русского символизма // Венцлова Т. Собеседники на пиру: статьи о русской литературе. Вильнюс, 1997. С. 48–81.
-
9 Сологуб Ф. Мелкий бес / Сост., статья, комментарий М.М. Павловой. СПб., 2004. С. 11. Роман и драма везде цитируются по этому изданию. Далее страницы указываются в тексте, в скобках после цитаты.
-
10 Минц З.Г. Указ. соч. С. 90.
-
11 Павлова М.М. Указ соч. С. 717.
-
12 См. подробнее: Тюпа В.И. Карнавальные пары в «Повестях Белкина» // Поэтика русской литературы: К 70-летию проф. Ю.В. Манна. М., 2001. С. 45–56.
-
13 См. об этом: Павлова М.М. Указ соч. С. 715.
-
14 «Это отображено и в двойственности передоновского бреда (мания величия – мания преследования), и в двух рядах мифологизирующих отождествлений образа: Передо-нов – Каин, “Хаос”, но одновременно он же – и страдающий “маленький человек”, гоголевский Поприщин» ( Минц З.Г. Указ. соч. С. 87).
-
15 Например: «Противоречивые чувства смешались в его [Саши] душе, чувства темные, неясные, – порочные, потому что ранние, – и сладкие, потому что порочные» (с. 202); «Сестры лгали так уверенно и спокойно, что им нельзя было не верить. Что же, ведь ложь и часто бывает правдоподобнее правды» (с. 238) и т. д.
-
16 Об этом см. далее, в сопоставлении романа с фильмом.
-
17 См. предисловие Сологуба к пятому изданию романа: «Я слышал, будто бы Варваре удалось убедить кого-то, что Передонов имел основание поступить так, как он поступил, – что Володин не раз произносил возмутительные слова и обнаруживал возмутительные намерения, – и что пред своею смертью он сказал нечто неслыханно-дерзкое,
что и повлекло роковую развязку. Этим рассказом Варвара, говорили мне, заинтересовала княгиню Волчанскую, и княгиня, которая раньше все забывала замолвить слово за Передонова, теперь будто бы приняла живое участие в его судьбе.
Что было с Передоновым по выходе его из лечебницы, об этом мои сведения неясны и противоречивы. Одни мне говорили, что Передонов поступил на службу в полицию, как ему и советовал Скучаев, и был советником губернского правления. Чем-то отличился в этой должности и делает хорошую карьеру» (с. 7).
Список литературы «Мелкий бес» Ф. Сологуба: роман, драма, фильм
- Павлова М.М. Творческая история романа «Мелкий бес»//Сологуб Ф. Мелкий бес/Сост., статья, комментарий М.М. Павловой. СПб., 2004. С. 643-883
- Павлова М.М. Творческая история романа «Мелкий бес». С. 816
- Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллинн, 1973
- Герабан Д. К поэтике повествовательной и драматической модели мира в романе и пьесе Ф. Сологуба «Мелкий бес»//Studia Russica II. Budapest, 1979. P. 171-186
- Ерофеев В. На грани разрыва. «Мелкий бес» Ф. Сологуба и русский реализм//Ерофеев В. В лабиринте проклятых вопросов. М., 1990. С. 79-100
- Минц З.Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов//Блок и русский символизм: Избранные труды: В 3 кн. СПб., 2004. Кн. 3: Поэтика русского символизма. С. 59-96
- Венцлова Т. К демонологии русского символизма//Венцлова Т. Собеседники на пиру: статьи о русской литературе. Вильнюс, 1997. С. 48-81
- Сологуб Ф. Мелкий бес/Сост., статья, комментарий М.М. Павловой. СПб., 2004. С. 11
- Минц З.Г. Указ. соч. С. 90
- Павлова М.М. Указ соч. С. 717
- Тюпа В.И. Карнавальные пары в «Повестях Белкина»/Поэтика русской литературы: К 70-летию проф. Ю.В. Манна. М., 2001. С. 45-56
- Павлова М.М. Указ соч. С. 715
- Минц З.Г. Указ. соч. С. 87