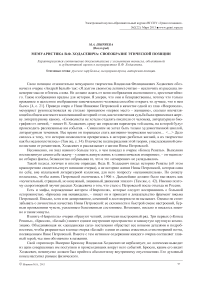Мемуаристика В.Ф. Ходасевича: своеобразие этической позиции
Автор: Ширяева Мария Александровна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 2 (22), 2013 года.
Бесплатный доступ
Характеризуется соотношение документализма с элементами вымысла, объективной и субъективной оценок в мемуаристике В.Ф. Ходасевича.
Русское зарубежье, мемуарная проза, авторская позиция
Короткий адрес: https://sciup.org/14821898
IDR: 14821898
Текст научной статьи Мемуаристика В.Ф. Ходасевича: своеобразие этической позиции
Свою позицию относительно мемуарного творчества Владислав Фелицианович Ходасевич обозначил в очерке «Андрей Белый» так: «Я долгом своим (не легким) считаю – исключить из рассказа лицемерие мысли и боязнь слова. Не должно ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие изображения вредны для истории. Я уверен, что они и безнравственны, потому что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нем было» [4, с. 21]. Приведя очерк о Нине Ивановне Петровской в качестве одной из глав «Некрополя», мемуарист руководствовался не столько принципом «первое место – женщине», сколько впечатляющей в общем контексте воспоминаний историей о том, как человеческая судьба была принесена в жертву литературному канону. «Символисты не хотели отделять писателя от человека, литературную биографию от личной, – пишет В. Ходасевич, сразу же определяя параметры той сцены, на которой будут происходить рассказанные им события. – Символизм не хотел быть только художественной школой, литературным течением. Все время он порывался стать жизненно-творческим методом… <…> Дело свелось к тому, что история символистов превратилась в историю разбитых жизней, а их творчество как бы недовоплотилось» (Там же, с. 34). В качестве подтверждения этой теории, унаследованной символистами от романтиков, Ходасевич и рассказывает о жизни Нины Петровской.
Несомненно, он знал намного больше того, о чем поведал в очерке «Конец Ренаты». Выполняя поставленную самим себе задачу – уложить живую жизнь в «символическое измерение», – он тщательно отбирал факты, безжалостно отбрасывая те, что в это «измерение» не укладывалось.
Такой подход логичен и вполне оправдан. Ведь В. Ходасевич писал историю Ренаты (об этом красноречиво свидетельствует название очерка), а не историю жизни Нины Петровской, которая сама по себе, вне излагаемой литературной коллизии, для него попросту «незанимательна». По сюжету полагалось, чтобы жизнь Петровской окончилась в 1906 г. Дальнейшее должно было выглядеть как «мучительный, страшный, но ненужный, лишенный движения эпилог» (Там же, с. 42). Именно поэтому скороговоркой звучит рассказ Ходасевича о том, что стало с Петровской после отъезда из России.
Есть и мифы, порожденные автором «Некрополя», которые следует воспринимать с большой осторожностью. «Брюсова она ненавидела», – пишет он и приводит в доказательство фрагмент письма Петровской. Письмо, хотя и не датированное, сомнений в достоверности не вызывает. Однако не стоит забывать о личностных качествах Нины Петровской: ее склонности к быстрой смене настроений, бурным проявлениям чувств, усиленным болезненным состоянием. Возможно, письмо и писалось именно в такие минуты.
В книге «Некрополь» очерки образуют четкий, логически выстроенный ряд. Три первых («Конец Ренаты», «Брюсов», «Белый») имеют единое внутреннее пространство и замкнутую круговую композицию. Объединяющая их «декаданская сага» постепенно обрастает все новыми деталями и подробностями, чтобы разрешиться в конце очерка «Белый» одним из самых известных стихотворений поэта, посвященным Нине Петровской. Вместе с тем истинное содержание каждого очерка составляет главный герой, чье имя обозначено в названии.
Свой «приговор» Валерию Брюсову Владислав Ходасевич не вербализует, но логически выводит из цепи совершенных им поступков и происходивших вокруг него событий. Брюсов, каким его видит Ходасевич, неминуемо должен был прийти к абсолютному внутреннему опустошению. Его духовный конец наступил раньше физического.
В. Ходасевич, как и многие, писавшие о Брюсове, указывал на бездушие поэта, самовлюбленность, декларативно носимую маску ницшеанства, откровенный диктат, требовавший подчинения окружающих собственной воле, бюрократическую страсть ко всякого рода заседаниям. Однако главное достоинство очерка о Брюсове состоит в убедительной, почти осязаемой подлинности. Производя глубинный психологический анализ личности поэта, Ходасевич сумел избежать схематизма: Брюсов у него – живой. Сохранены и переданы не только жесты, интонации, манера держаться, но и бытовой уклад дома.
«Если ключ к образу Брюсова – “волевое начало”, то для Андрея Белого – это “вдохновение”. От Брюсова исходила давящая тяжесть, от Андрея Белого – лучезарная легкость» [2, с. 17]. Поэтическим образом золотокудрого и синеглазого мальчика, золотой палочкой по золотой дорожке толкающего золотой обруч – золотой круг солнца, открывается очерк об Андрее Белом. И замыкается солнечный круг его жизни весьма символически – солнечным ударом.
Воспоминания перемежаются с анализом произведений. В. Ходасевич показал, что главным содержанием прозы Белого являются глубоко пережитые в раннем детстве конфликтные отношения родителей, сформировавшие у него стойкий «эдипов комплекс». Очевидно, желая «обелить» и «оправдать» своего героя, Ходасевич начал очерк об Андрее Белом с пространного рассуждения о том, что «надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порой даже за эти слабости. Такой человек не нуждается в прикрасах, – пишет В. Ходасевич. – Он от нас требует гораздо более трудного: полноты понимания» [4, с. 70].
Повествование о московских символистах Ходасевич замыкает рассказом, посвященным С. Кис-сину. В трактовке В. Ходасевича между Петровской и Киссиным немало общего. Оба, хотя и не оставили следа в литературе, заявили о себе как яркие явления в истории символизма. И Киссин, и Петровская не были людьми толпы. «Он слишком своеобразен и сложен, чтобы ему быть “типом”, – пишет о Киссине Ходасевич. – Он был симптом, а не тип» (Там же, с. 101).
И Петровская, и Киссин оказались жертвами символизма, заплутали в лабиринтах инобытия, искусственно сотворенной реальности, потерялись в «лесу символов» и отражений, которые «надобно было расшифровать». В связи с судьбой Нины Петровской В. Ходасевич пространно рассуждает о тяге символистов к жизнетворчеству, в результате приведшей к гибели. Для Киссина, по мысли Ходасевича, роковым оказалось символистское восприятие реального мира, точнее, отказ воспринять его как единственную реальность, желание жить в ином, «трудном и сложном мире» двоящихся предметов и отражений явлений, в которых почти неузнаваемы проекции реальных вещей. Не случайно Муни ощущал себя «тенью от дыма», несостоявшимся, несуществующим.
Как образ Петровской, так и образ Киссина, данный Ходасевичем, скорее всего не вполне совпадает с реальным. Во всяком случае, близко знавший Киссина Андрей Белый изображает его вполне «воплотившимся» сильным человеком, напоминавшим, несмотря на свою молодость, библейского патриарха.
При сопоставлении двух центральных фигур московского символизма – Валерия Брюсова и Андрея Белого – можно обнаружить мотив двойничества. В двойном очерке «Гумилёв и Блок» – антиподы, откровенно противопоставленные друг другу. Для Ходасевича это противопоставление принципиально. Блока он объединяет с Белым как воплощение общего песенно-мистического начала. «Блок <…> был одним из чистейших символистов, – писал В. Ходасевич. – …Для Блока его поэзия была первейшим, реальным духовным подвигом, неотделимым от жизни… <…> Блок был поэтом всегда, в каждую минуту своей жизни» (Там же, с. 65).
Блоку был противопоставлен Николай Гумилёв, в котором Ходасевич увидел отражение Брюсова. Это воплощенный тип литератора новой формации, не связанной с классическими традициями. Подобно большинству очерков «Некрополя», этот написан как бы в двух планах. Размышления о символизме и шире – о судьбах русской культуры – органично перемежаются с картинами литературного быта.
Очерк о М. Гершензоне проникнут теплой, человечной интонацией. В. Ходасевич изображает не Гершензона – «солидного ученого», известного пушкиниста, а Гершензона – человека, скромного, благородного, в чем-то по-детски трогательного и необычайно привлекательного в своей глубокой личной порядочности. Вместе с тем у этого очерка, как и у большинства составляющих «Некрополь», есть второй, литературный план, есть идея, работающая на общий историко-культурный контекст книги.
Замыкает ряд символистских авторов значительная и в литературе, и в жизни фигура Ф. Сологуба. В. Ходасевич отмечает в облике и поэзии Сологуба статику, откуда-то сразу явившуюся завершенность и неизменность, неподвластность времени. В отличие от других очерков, в этом главное внимание автора сосредоточено на литературно-критическом разборе поэзии Сологуба.
Один из завершающих книгу очерков «Есенин» был написан в связи с взволновавшей Ходасевича трагической гибелью поэта. В нем довольно скупо отражены личные впечатления от встреч с С. Есениным, да и встреч этих было немного. Главное содержание очерка составляет глубокий анализ сложных процессов, происходивших в сознании так называемых крестьянских поэтов. В. Ходасевич пишет, что «история Есенина есть история заблуждений» [4, с. 112].
Наконец, завершает «Некрополь» очерк, посвященный Максиму Горькому. Знакомство Ходасевича с Горьким длилось семь лет. В. Ходасевич считал, что хорошо знал писателя. С самого начала мемуарист оговаривает себе право не затрагивать очень важную в жизни Горького «область его политических взглядов, отношений и поступков». Не содержит очерк и анализа литературных произведений Горького. Акцент сделан, прежде всего, на человеческой личности, увиденной при разных обстоятельствах и в разных житейских ситуациях, в том числе и «без свидетелей», в домашней обстановке. Эти особенности сближают очерк о Максиме Горьком с очерком о Валерии Брюсове. Ходасевич близко знал обоих, что и позволило ему воссоздать их столь непохожие образы убедительно и живо.
В целом же мемуарная проза В. Ходасевича отличается сухостью и жестковатостью. Создается ощущение, что он демонстративно не жалеет никого и старается представить деятелей литературы начала XX в. в невыгодном для них свете. «Ходасевич не щадил ни Брюсова, ни Белого, ни Сологуба, ни Горького, отрицая написанным сам принцип: “О мертвых либо хорошо, либо ничего”. Он убежден: писательство – не забава, а призвание и – смирение. И во имя литературы поэт должен жертвовать собой, своими капризами. Величие этой миссии – “русский писатель” – обязывало быть строгим даже к усопшим» [2, с. 6]. Мемуаристика Ходасевича отличается не только строгостью и «избирательностью», но и лаконизмом (очерки сравнительно невелики по объему, хотя при этом каждому, кого он вспоминает, выделена отдельная глава), а во-вторых, сближением очерковых зарисовок с жанром некролога, что в полной мере названию книги – «Некрополь». Произведения об умерших писателях, поэтах и прочих «деятелях культуры» действительно по форме напоминают некрологи, т.е. идут в прошедшем времени и с упоминанием даты и (по возможности) обстоятельств смерти, хотя и с некорректными (а часто неуместными) нотами негативизма.
Другая важнейшая особенность «Некрополя» заключается в обилии авторских рассуждений на литературоведческие темы. В самом первом очерке, «Конец Ренаты», В. Ходасевич размышляет о понимании поэта и личности символистами, об их представлениях о соотношении творчества и жизни. И рассуждения эти весьма объемны (если опять же учесть жанровые параметры очерка), что служит противопоставлением прозе его жены Н.Н. Берберовой, которая, по ее собственному признанию, мало интересовалась «транцендентностью», т.е. общими «вечными» вопросами [1, с. 5].
Однако мемуарное творчество Ходасевича не ограничивается одним только «Некрополем». Необходимо также назвать «Белый коридор», который по своим хронологическим рамкам является своеобразным продолжением «Некрополя». Главное отличие этих двух сборников заключается в позиции мемуариста относительно описываемого действия. Если «Некрополь» – это ряд фрагментарных жизнеописаний, где присутствие автора в описываемых событиях завуалировано, то в «Белом коридоре» наоборот: В. Ходасевич рассказывает большей частью о тех событиях, свидетелем которых был он сам и зачастую сам оказывался их активным участником. Такая столь высокая степень присутствия авто- ра еще больше усиливается предваряющей небольшой автобиографической заметкой (своеобразным предисловием), где также содержатся элементы, присущие мемуаристике. Так, рассказы о своей жизни (разумеется, в хронологическом порядке, с того момента, как Ходасевич сам себя помнил) перемежаются с вкраплениями событий из другого временного пласта, но прямо или косвенно связанного с человеком, местом, событием и т.п., о котором писал мемуарист. Приведем показательный пример: описывается запомнившийся эпизод из детства, связанный с «сакральностью» некоего места. «Это «местечко» казалось мне чем-то таинственным, чем-то вроде сердечка: оно где-то бьется часто и мелко, как часики, – иногда его, вероятно, можно расслышать, но как и где, и почему именно няня могла его слышать, и зачем оно нужно всем этим женщинам?
В 1918 году, когда большевиками овладела мания ставить памятники, на этой площадке водрузили почему-то памятник Генриху Гейне. Какой-то чахоточный господин с бородкой сидел в кресле, а у ног, ластясь, примостилась полуголая баба с распущенными космами – не то Лорелея, не то Муза. Памятник сделан был из какой-то белой дряни и внутри пуст.
Зимой 1921 года я проходил мимо него. У Гейне нос был совсем черный, а у Лорелеи отбили зад, на месте которого образовалась дыра, наполненная грязной бумагой, жестянками и всяким мусором» [3, с. 25].
Так, одно и то же городское пространство представлено в трех временных координатах – детство автора, когда он гулял мимо со своей няней (точная дата не указывается), 1918-й и 1921-й гг. Как видим, очерки «Белого коридора» по духу вполне соответствуют «Некрополю». В них, пожалуй, лишь более расширен момент самолюбования, который ощущается в интонациях автора, а порой и в развернутых пассажах о своей исключительности и уникальности. И даже если В. Ходасевич преподносит себя не в самом выгодном свете, то за этим актом стоит вполне определенная позиция: не скрывать, а, может, кокетничать своими недостатками, гордиться капризностью, нелогичностью или абсурдностью некоторых поступков.
Можно утверждать, что единого смыслового и композиционного центра в «Белом коридоре» не ощущается: он постоянно смещается, но смещается в ту или иную сторону именно от фигуры самого мемуариста: «Однажды мы в Театральном отделе прозаседали часов до пяти. Я сидел далеко от Каме невой» (Там же, с. 84). И хотя, автор переходит на живущих в этом самом «Белом коридоре» (места обитания большинства литераторов), характеризует в деталях особенности быта, он хорошо знает даже те «мелочи», о которых остальные не всегда имели представление. Таков, например, рассказ о том, в чем выгоднее хранить деньги: в книгах, т.к. их пока не запретили. Затем мемуарист плавно переходит на описание дам, которые «наводили» на себя лоск образованности; его интересует также, чем занимаются «наши» (коллеги и знакомые), кто во что одет и кто более благополучен в бытовом отношении, чем другие и т.п. Политика, как и в «Некрополе», особой роли не играет, несмотря на явную и почти всеобщую политизированность общества в целом. Ходасевич как бы мимоходом, нехотя замечает: «Большевики говорили что-то большевицкое, но некстати, потому что какие же классовые интересы у мельничной нечисти?» (Там же, с. 90). В основном же его замечания касаются влияния власти на культуру: партийные указки сверху, директивные документы, имеющие отношение к его деятельности и т.п. Но в целом (и это подчеркнем) настроение автора вполне позитивное, хотя объективно не ощущается, пока сам автор об этом не скажет. Тем не менее В. Ходасевич пишет о том, что изменения Петербургу «к лицу», а чувство душевного подъема, поселившееся в литературных кругах, не могла «победить» бытовая неустроенность.
Общность тона двух мемуарных сборников В. Ходасевича оттеняет различие содержания и частично – композиции. Если в «Некрополе» повествование нередко развертываются от конца к началу, то «Белый коридор» хронологически последователен. И если в первом сборнике (как это задано самим названием) явственно ощущаются дыхание смерти и неизбежность ухода от прошлого, то во втором случае мы видим скорее не уход, а переход мемуариста в позитивное измерение бытия, ориентацию на самое течение жизни.
Список литературы Мемуаристика В.Ф. Ходасевича: своеобразие этической позиции
- Берберова Н. Курсив мой. М., 1996.
- Петинова Е. «Некрополь» Владислава Ходасевича//Некрополь/В. Ходасевич. СПб.: Азбука-классика, 2001. С. 5-32.
- Ходасевич В. Белый коридор. М., 2004.
- Ходасевич В. Некрополь. М., 2001.