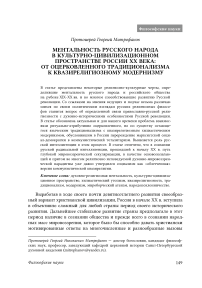Ментальность русского народа в культурно-цивилизационном пространстве России ХХ века: от оцерковленного традиционализма к квазирелигиозному модернизму
Автор: Митрофанов Георгий Николаевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 3 (74), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены некоторые религиозно-культурные черты, опре- делившие ментальность русского народа и российского общества на рубеже XIX-XX вв. и во многом способствовавшие развитию Русской революции. Со ссылками на мнения ведущих и подчас весьма различав- шихся по своим политическим взглядам русских религиозных филосо- фов ставится вопрос об определенной связи православно-русской рели- гиозности с духовно-историческими особенностями Русской революции. В статье обозначена актуальная и для нашего времени проблема взаимос- вязи ритуально-атрибутивно оцерковленного, но по существу остающе- гося языческим традиционализма с квазирелегиозным хилиастическим модернизмом, обусловившим в России перерождение марксистской соци- ал-демократии в коммунистический тоталитаризм. Выявляется роль рус- ской интеллигенции в этом процессе. В статье отмечено, что в сознании русской радикальной интеллигенции, прошедшей к началу ХХ в. путь глубокой мировоззренческой секуляризации, в качестве основополагаю- щей и притом во многом религиозно исповедуемой духовно-мировоззрен- ческой парадигмы уже давно утвердился социализм как «облегченная» версия коммунистической квазирелигии
Духовно-религиозная ментальность, культурно-цивилизационное пространство, хилиастический утопизм, квазирелигиозность, традиционализм, модернизм, мироборческий атеизм, народопоклонничество
Короткий адрес: https://sciup.org/140190303
IDR: 140190303
Текст научной статьи Ментальность русского народа в культурно-цивилизационном пространстве России ХХ века: от оцерковленного традиционализма к квазирелигиозному модернизму
быстро меняющейся культурно-исторической жизни. Однако в России веками практически параллельно сосуществовали вдохновлявшаяся аскетическими идеалами монашеской святости православная духовно-культурная традиция и ориентировавшаяся на политическую целесообразность православно-атрибутивная монархическая государственность, которые не смогли даже к ХХ в. выработать подлинно воцерковленную, способную отзываться на запросы современной общественной жизни государственно-политическую идеологию. В то же время православное бытовое благочестие, являвшееся на протяжении всей русской истории основным оплотом христианской религиозности в народе, стремительно разрушалось под влиянием столь же стремительно происходившей с конца ХIХ в. модернизации культурно-хозяйственного уклада народной жизни. В этих условиях исторически привыкшая сторониться профанной общественно-политической жизни православная иерархия, к тому же связанная административными путами синодальной бюрократии, не могла действенно противостоять происходившей в это время в сознании народных масс духовно-мировоззренческой секуляризации, которая обнажила во многом еще не преображенные христианством рудиментарно-языческие пласты народной религиозности.
«В России не было реформации, и не произошло поэтому… того превращения христианской морали в методику и дисциплину ежедневной жизни, которое совершилось на Западе, — писал П. Б. Струве. — В России была религия и религиозность, но в ежедневную жизнь как дисциплинирующее начало религия не проникла. Это очевидный и едва ли не самый многозначительный факт русской истории»11. Отмеченный П. Б. Струве недостаток в русской религиозно-общественной жизни религиозно-дис-циплинирующих, религиозно-формирующих эту жизнь начал обусловил наличие в ней особого, идущего из глубины народного мирочув-ствия критического отношения к прикладному применению церковной культуры, а порой и культуры вообще, к нуждам повседневной жизни общества. Именно это отношение во многом определяло не только бытовой уклад русской жизни, но и глубинные духовно-религиозные тенденции русской цивилизации. При этом в духовно-нравственном сознании русского народа выработалось представление о параллельном существовании связанной с Церковью духовно-религиозной жизни и повседневной общественно-политической и хозяйственно-бытовой жизни, которое
1 Струве П. Б. Россия // Избр. соч. М., 1999. С. 344‒345.
неизбежно должно было обусловить серьезные негативные процессы как в каждой из перечисленных сфер культурно-исторического бытия России, так и в русском национальном характере, как таковом.
«Русское религиозное сознание постепенно уходило от жизни и из жизни, училось и учило терпеть и страдать, а не бороться и творить жизнь; все лучшие силы русского духа стали уходить на страдание и страдательность, на пассивность и бездейственную мечтательность, — отмечал С. Л. Франк. — И параллельно этому вся действенная, жизненно-творческая энергия национальной воли становилась духовно непросветленной, нравственно необузданной, превращалась в темное буйство злых страстей и бесплодно-отрицательного рассудочного умствования. Русский религиозный дух уже давно перестал нравственно укреплять народ в его будничной трудовой жизни, пропитывать нравственными силами земные экономические и правовые его отношения. И потому здоровый в основе реалистический инстинкт народа оторвался от духовного корня жизни и стал находить удовлетворение в неверии, в чисто отрицательной освобожденности, т. е. в разнузданности мысли и чувства. Все лучшее, благородное и духовно-глубокое становилось мечтательно-бессильным, а все сильное и практически-действен-ное — темным и злым»2.
Причины отчужденности общественно-политической жизни в России от жизни духовно-религиозной объяснялись не только особенностями русского национального менталитета и своеобразием исторического пути России, но и характерными чертами восприятия государства, общества и личности, сложившимися в православной церковной традиции в течение всей ее многовековой истории. «Православное религиозное воспитание неблагоприятно для исторической жизни народов; оно мало научает общественному и культурному строительству, мало дисциплинирует личность, — отмечал Н. А. Бердяев. — Православие вечно колеблется между максимализмом святости и минимализмом довольно низменной бытовой жизни. Русское православие создало ослепительные образы святости и воспитало в народе культ святости и святых. Но очень мало сделало для развития в русском человеке честности и ответственности, для религиозного укрепления в нем энергии, необходимой для творчества истории и культуры. В русской религиозности всегда преобладали черты восточной пассивности. В этом типе религиозности всегда было слабо выражено начало личности. Личность расплывалась и тонула в природном коллективизме, который принимали за духовную соборность»3.
Оборотной стороной столь своеобразного духовно-религиозного развития русского народа, основанного на роковом соединении «азиатски женственной» национальной ментальности и характерных для исторического православия теоретического общественного «докетизма» и практического политического сервилизма, являлись распространенные в русском народе двоеверие в религиозной мысли и двоедушие в исторической жизни. Многократно отмечавшееся как русским православным духовенством, так и русскими учеными исследователями религиозное двоеверие представляло собой причудливо сложившееся в народной душе сочетание смутно понимаемых вероучительных истин православного катехизиса с яркими языческими рудиментами народного быта и будоражащими мистическими псевдооткровениями народного сектантства. Не раз катастрофически заявлявшее о себе в русском прошлом историческое двоедушие заключалось в многолетнем сосуществовании горних идеалов церковной святости, вычитанных из житий святых и услышанных в церковных проповедях, и дольних верований стадно-коллективистских обычаев, непросвещенно языческих в своем утилитарном содержании. Непросветленное подлинной православной культурой и усугублявшееся мировоззренческой секуляризацией религиозное двоеверие народных масс все же оставалось духовной доминантой народного сознания, отчасти сдерживавшей разрушительные стихии в душе русского народа. Однако именно на рубеже ХIХ‒ХХ вв. эти разрушительные стихии особенно деструктивно могли проявиться в жизни страны, переживавшей глубокие общественно-культурные метаморфозы в связи с активным выходом на арену российской истории представителей радикальной интеллигенции.
В сознании русской радикальной интеллигенции, прошедшей к этому времени путь глубокой мировоззренческой секуляризации, в качестве основополагающей и притом во многом религиозно исповедуемой духовно-мировоззренческой парадигмы уже давно утвердился социализм как «облегченная» версия коммунистической квазирелигии. Привнесение в народные массы вульгаризованных в процессе революционной пропаганды догматов именно этой по существу неоязыческой квазирелигии стало смыслом общественного миссионерства революционной интеллигенции.
Умозрительно-утопическая идейность и культурно-историческая беспочвенность русской радикальной интеллигенции в течение многих десятилетий создавали в среде интеллигенции такую духовную атмосферу, которая сделала возможной распространение в ней весьма своеобразной секуляризованной религиозности. «Говоря простым языком, русская интеллигенция „идейна“ и „беспочвенна“, — писал Г. П. Федотов. — …Идейность есть особый вид рационализма, этически окрашенный… Чаще всего он берет готовую систему „истин“ и на ней строит идеал личного и общественного (политического) поведения. Если идейность замещает религию, то она берет от нее лишь догмат и святость: догмат, понимаемый рационалистически, святость — этически, с изгнанием всех иррациональных, мистических или жизненных основ религии. Догмат определяет характер поведения (святости), но сама святость сообщает системе „истин“ характер догмата, освящая ее, придавая ей неприкосновенность и неподвижность. Такая система обыкновенно не способна развиваться. Она гибнет насильственно, вытесняемая новой системой догм, и этой гибели идей обыкновенно соответствует не метафорическая, а буквальная гибель целого поколения… Беспочвенность есть отрыв: от быта, от национальной культуры, от национальной религии, от государства, от класса, от всех органически выросших социальных и духовных образований. Конечно, отрыв этот может быть лишь более или менее полным. В пределе отрыв приводит к нигилизму, уже не совместимому ни с какой идейностью»4.
Русская радикальная интеллигенция была обречена пережить духовную эволюцию, в процессе которой ее умозрительно-утопическая идейность превратилась в абстрактный и бесчувственный к реальному человеку морализм, а ее культурно-историческая беспочвенность выродилась в религиозно-мировоззренческий нигилизм. Закономерным результатом этой эволюции явилось обращение радикальной интеллигенции к разрушавшему ее душу, но порой способному обеспечить ей политический успех имморализму, который обрекал русскую интеллигенцию на неистовое бого- и мироборчество атеизма.
Доминировавший в западноевропейском атеизме рационалистический скептицизм, который делал последовательный атеизм на Западе достоянием узкого круга интеллектуальной элиты, оказался вытесненным в атеизме русской интеллигенции окрашенной в моралистические тона богоборческой религиозностью. Именно эта идеологизированная религиозность придала русскому атеизму характер своеобразного антитеизма и предопределила тем самым перспективу его широкого распространения во всегда стихийно религиозном массовом народном сознании. Религиозная масштабность теоретических претензий и религиозная неистовость практических устремлений социального утопизма русской революционной интеллигенции неизбежно должны были повлиять на складывавшийся в ее среде духовно-мировоззренческий и социально-психологический тип личности революционного интеллигента, придав ему характерные черты уже упоминавшейся выше секуляризованной религиозности и богоборческого исповедничества. «Многократно указывалось (вслед за Достоевским), что в духовном облике русской интеллигенции имеются черты религиозности, иногда приближающиеся даже к христианской, — писал протоиерей Сергий Булгаков. — Свойства эти воспитывались, прежде всего, ее внешними историческими судьбами: с одной стороны, правительственными преследованиями, создававшими в ней самочувствие мученичества и исповедничества, с другой — насильственной оторванностью от жизни, развившей мечтательность, иногда прекраснодушие, утопизм, вообще недостаточное чувство действительности… Атеизм есть вообще вера, в которую крещаются вступившие в лоно церкви интеллигентски-гуманистической, и не только из образованного класса, но и из народа… И вместе с тем приходится признать, что русский атеизм отнюдь не является сознательным отрицанием, плодом сложной, мучительной и продолжительной работы ума, сердца и воли, итогом личной жизни. Нет, он берется чаще всего на веру и сохраняет эти черты наивной религиозной веры, только наизнанку, и это не изменяется вследствие того, что он принимает воинствующие, догматические, наукообразные формы»5.
Однако по своему реальному содержанию секуляризованная интеллигентская религиозность и сформировавшийся в контексте этой религиозности тип псевдоподвижника революционного благочестия, вдохновлявшиеся мифологемой бого- и мироборческого утопизма, должны были представлять собой диаметральную противоположность подлинной христианской религиозности и истинному церковному благочестию.
«Все, что касается религиозной культуры личности, ее выработки, дисциплины, неизбежно остается у интеллигенции в полной запущенности, — отмечал протоиерей Сергий Булгаков. — У нее отсутствуют те абсолютные нормы и ценности, которые для этой культуры необходимы и даются только в религии. И, прежде всего, отсутствуют понятие греха и чувство греха, настолько, что слово „грех“ звучит для интеллигентского уха так же почти дико и чуждо, как „смирение“»6.
Одним из наиболее значительных стимулов для развития секуляризованной социально-утопической религиозности русской революционной интеллигенции оказывалось характерное для многих ее представителей народопоклонничество, отождествлявшее идеал социального, а значит, и духовного устройства общества с идеалом примитивно-архаичного мужицкого царства. Эта опрощенческая социально-утопическая химера не только лишала русскую интеллигенцию понимания реальных нужд русского народа, но и создавала у нее опасную иллюзию «предугото-ванности» путей осуществления коммунистической утопии в народной душе, которая веками чаяла воплотить эту утопию, хотя и связывала ее ошибочно с идеей «царства небесного».
Религиозно окрашенное народопоклонничество было во многом заимствовано русской революционной интеллигенцией из предшествовавшей, присущей как славянофилам, так и сторонникам официальной идеологии «самодержавия, православия и народности» традиции осмысления духовно-исторического бытия русского народа. Причем изначально на эту традицию безусловно наложила свой опосредованный отпечаток «московско-третьи-римская» мифологема исторического русского православия, в которой национально-языческий элемент незаметно подменял собой элемент вселенско-православный. Впрочем, подобного рода подмена лишь способствовала утверждению в сознании всегда отчужденной от подлинно православного мировоззрения русской революционной интеллигенции народопоклоннического культа, утверждавшего веру в имманентно присущее народному коллективу обладание истиной в последней инстанции. «Народничество всегда было в России какой-то лжесоборностью, лжецерковностью, — подчеркивал Н. А. Бердяев. — Сама христианская церковь, по природе своей вселенская, получила в России резко народнический отпечаток. Церковь определилась как русская мужицкая церковь по преимуществу… В этом опасность крайней национализации церкви, переходящей в отождествление ее с народом. Но необходимо окончательно и бесповоротно установить, что народный коллективизм не есть церковная соборность и отличается от нее, как земля от неба. Религиозное народничество возвращает нас от христианства к язычеству, к языческой стихийности и языческому натурализму»7.
Осуществив в рамках своей идеологии развитие губительного для России симбиоза стихийного духовно-мировоззренческого нигилизма народных масс и рационалистически обосновываемого социально-политического утопизма революционной интеллигенции, коммунизм в еще большей степени способствовал взаимовосполнению все более распространявшегося в ХХ в. народного безбожия и упрощенно-пропагандистского богоборчества интеллигентского марксизма. «В массе народной… религиозность всегда была полухристианской-полуязыческой. Но и это исконное полуязычество русского народа все-таки религиозно бесконечно выше и благороднее того неверия и нигилизма, которые все более и более охватывают народ, — писал Н. А. Бердяев. — …Интеллигентское полупросвещение быстро убило остатки веры в массе русского народа. И как это ни горько, но нужно признать, что ныне русский народ менее религиозен, чем многие народы Запада, что религиозная культура души в нем слабее. Полный нигилизм легче всего овладевает русским человеком»8.
Быстрое и широкое распространение духовно-нравственного нигилизма в России оказалось возможным не столько из-за общей экономической и политической отсталости страны от ведущих государств Западной Европы. В значительно большей степени это было связано с тем, что на протяжении многих веков, в особенности в допетровский период российской истории, традиции христианской духовной культуры лишь атрибутивно-символически проявляли себя в институционально зафиксированных формах российской государственности. При этом развитие гражданского общества в России, хронологически совпавшее с разрушавшей традиционный архаично-православный бытовой уклад русского крестьянства «виттевской» индустриализацией, неизбежно должно было осуществляться под преобладающим влиянием мировоззренческих идеалов секуляризованного европейского гуманизма. Однако и этим идеалам не суждено было заполнить «ценностный» вакуум, образовавшийся в народном сознании после крушения исторически исчерпавшего себя идеала «православного мужицкого царя».
Сформировавшаяся еще под влиянием государственно-цивилизационных стереотипов Византийской империи православная традиция благочестия пессимистически оценивала возможность проявления святости где-либо, кроме архиерейских и княжеских покоев и монашеских келий. Именно эта традиция во многих поколениях приучала русский народ к восприятию государственной и общественной жизни как наиболее искусительной в своей профанной обыденности и отданной на произвол низменных человеческих страстей. Поэтому распространение общественно-политической, заключенной в квазирелигиозные формы идеологии, морально санкционировавшей разнуздание этих страстей в процессе коммунистической революции, вполне могло найти отзвук в народных массах, мировоззренчески не подготовленных православным духовенством к преодолению подобного духовно-нравственного искушения.
Разрушение православного бытового благочестия, являвшегося многие века единственной формой сохранения в народных массах элементов церковного предания, обнаружило не только отсутствие в русском народе подлинной вероучительной просвещенности. Прежде всего, оно выявило в нем наличие во многом не преодоленной стихии языческой религиозности, которая оказывалась весьма созвучной ориентированному на разрушение основ христианской цивилизации, хотя и закамуфлированному в форму интеллектуальной марксистской утопии духовно-нравственному нигилизму русской революционной интеллигенции. Основанная на опро-щенческом примитивизме, прелагавшем идею «экспроприации экспроприаторов» в лозунг «грабь награбленное», и лжерелигиозном утопизме, подменявшем церковное учение о «Царстве Божьем внутри вас» народной мечтой о «царстве мужицком среди нас», коммунистическая идеология в устах своих большевистских «благовестников» превращалась в квази-религиозную пропагандистско-хилиастическую проповедь. Во главу угла этой проповеди полагалась неведомая ранее русскому народу классовая мораль, которая давала всегда отвергавшееся сонмом народных праведников и постоянно вожделевшееся поколениями народных грешников «право на бесчестье». Именно этой квазирелигиозной, утопической морали суждено было разнуздать веками, хотя и с переменным успехом сдерживавшиеся в народной душе моралью церковной низменные духовно-исторические страсти, оказавшиеся разрушительными как для самого русского народа, так и для веками созидавшейся этим народом страны.