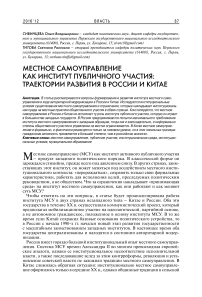Местное самоуправление как институт публичного участия: траектории развития в России и Китае
Автор: Сивинцева Ольга Владимировна, Титова Светлана Раиловна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 12, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы формирования и развития института местного самоуправления в ходе авторитарной модернизации в России и Китае. Исследуются институциональные условия существования местного самоуправления и ограничения, которые накладывает институциональная среда на местные практики общественного участия в обеих странах. Констатируется, что местное самоуправление в России и Китае не исполняет ту роль института публичного участия, которую он играет в большинстве западных государств. В России предпринимаются попытки максимального приближения института местного самоуправления к западным образцам, тогда как и законодательно, и неформально степень общественного участия в управлении на местах ограничивается. В Китае местное самоуправление и формально, и фактически реализуется только на низовом уровне, но в этих локальных границах гражданская активность проявляется в большей степени, чем в российских аналогах.
Местное самоуправление, публичное участие, институциональная среда, институциональные условия, муниципальное образование
Короткий адрес: https://sciup.org/170168274
IDR: 170168274
Текст научной статьи Местное самоуправление как институт публичного участия: траектории развития в России и Китае
М естное самоуправление (МСУ) как институт активного публичного участия – продукт западного политического порядка. В классической форме он зарождался стихийно, прежде всего под давлением снизу. В других странах, заимствующих этот институт, он может меняться под воздействием местного институционального контекста: «перерождаться», сохранять только свои формальные характеристики, работать для исполнения целей, преследуемых политическим руководством, а не обществом. Что за ограничения накладывает «принимающая среда» на институт местного самоуправления, как они работают и как меняют суть МСУ?
Чтобы ответить на эти вопросы, в статье будет проанализирована работа института МСУ в двух странах незападного типа – Китае и России. Оба эти государства в течение ХХ в. осуществляли коммунистический проект, который предполагал мобилизационное участие на идеологической, партийной основе, а не автономное гражданское, положенное в основу института МСУ. В то же время если Китай сохранил базовые основания политического устройства, то в России с начала 1990-х гг. начался новый этап развития государственности с масштабным заимствованием западных институтов. В настоящее время оба государства централизованны и находятся в состоянии авторитарной модернизации.
Россия имеет гораздо больший институциональный опыт местного самоуправления. Система МСУ времен Александра II во многом превосходила европейские аналоги, однако ее институциональное несоответствие исполнительной власти, а также последовавшие вслед за этим контрреформы, революция и установление советской власти не заложили традиции местного самоуправления. В Китае сложилась обратная ситуация: институционально местное самоуправление оформилось только в середине ХХ в., однако общинные традиции в сельской местности начинают складываться еще в период правления династии Западная Хань (206 г. до н.э. – 25 г. н.э.).
Политические условия развития местного самоуправления в России формируются в ходе крушения советского режима и установления новой формы государственности. В годы перестройки в условиях ограниченной работоспособности старых институтов роль органов МСУ приняли на себя Советы, сыгравшие роль механизмов ресоветизации. Это иллюстрируют профильные законы СССР1 и РФ2, менявшие распределение полномочий между Советами и партийными исполкомами в пользу первых. Оба они не успели осуществиться: после октября 1993 г. Советы народных депутатов уступили место новой системе МСУ. Эта система создавалась Конституцией 1993 г. и отражала интересы ельцинской команды, мэров городов и председателей местных Советов, а также «регионалов», которые добились компромиссных формулировок [Гельман и др. 2008: 63-64].
Экономические условия не являлись благоприятными для успешного становления системы МСУ в России. В 1990-е гг. радикальные экономические преобразования привели к снижению общего уровня благосостояния населения и не сформировали систему самообеспечения муниципалитетов. Как правило, местные источники покрывают не более 20–25% расходов, а в сельских районах – еще меньше3.
В Китае политические условия для формирования современной системы МСУ связаны с глобальными экономическими преобразованиями, стартовавшими с конца 1970-х гг. Современные комитеты сельского и городского населения создавались стихийно, «снизу», однако уже в начале 1980-х гг. эти процессы были взяты под контроль политическим руководством страны, и комитеты стали посредниками между партийными организациями и населением. Реформа МСУ не являлась первостепенной задачей органов власти, а скорее сопровождала экономические процессы и отчасти закрепляла ранее созданные общинные традиции, поэтому особых политических споров вокруг этой темы не возникло.
Экономические условия в Китае благоприятствовали процессам активизации местного самоуправления: с конца 1970-х гг. для КНР характерен беспрецедентный экономический рост, а в 2001 г. страна вступает в ВТО. В этих условиях МСУ стало механизмом рационализации управления местными ресурсами.
Политические и экономические условия для развития МСУ в Китае более благоприятны, чем в России. Этому способствовали как традиционный общинный уклад, так и постепенная либерализация. В России после коллапса СССР попытки радикального переустройства всех сфер общественной жизни и постоянная политическая борьба были неблагоприятны для развития МСУ.
Правовые основы МСУ в РФ сформированы Конституцией РФ, а также профильными законами 1995 и 2003 гг. Законы регламентируют территориальное устройство, полномочия и ресурсную обеспеченность органов МСУ. При этом действующим федеральным законом «Об общих принципах организации мест- ного самоуправления в Российской Федерации»1 (далее – закон 131-ФЗ), в отличие от закона 1995 г., был значительно расширен круг рассматриваемых аспектов.
С 2014 г. закон закрепляет 5 вариантов организации МСУ. На местах устанавливается собственная система муниципальных органов, куда входят глава, представительный, исполнительно-распорядительный (местная администрация) и контрольный органы, а также иные органы согласно уставу. Действуют непосредственные формы осуществления населением местного самоуправления: местный референдум, муниципальные выборы, голосование по отзыву и по вопросам изменения границ или преобразования муниципального образования, сходы граждан, территориальное общественное самоуправление (ТОС). Участие населения в осуществлении местного самоуправления может осуществляться через публичные слушания, собрания, конференции и опросы граждан, обращения граждан в муниципальные органы2.
Хотя Конституция декларирует автономию органов МСУ, в законе 131-ФЗ предусмотрено достаточно много положений, определяющих вмешательство государства в их дела. Среди них государственные полномочия, передаваемые на уровень местного самоуправления, возможность создания временной финансовой муниципальной администрации в случае банкротства муниципалитета, нецелевого расходования бюджетных средств или чрезвычайных ситуаций, возможность для органов государственной власти инициировать и организовывать изменение границ и преобразование муниципалитетов3.
Закон постоянно претерпевает изменения. Наиболее радикальные из них произошли в 2014 г., когда субъектам РФ было дано право перераспределять полномочия между ними и органами МСУ, принимать непосредственное участие в назначении главы местной администрации – главы поселения. Каждый субъект РФ принял региональный закон, унифицирующий модель организации МСУ. Большинство региональных законодателей предпочли отменить прямые выборы глав муниципальных образований4.
В Китае организация местного управления сохранилась с момента учреждения КНР в 1949 г. Она включает местные собрания народных представителей и местные правительства и не предполагает выборы должностных лиц муниципалитетов. Местные органы встраиваются в жесткую вертикаль власти наряду с центральными органами.
Комитеты городского и сельского населения были институционализированы в Конституции КНР 1982 г., в которой они определяются как «низовые массовые организации самоуправления»5. Отдельные законы, регламентирующие организацию и работу комитетов сельского населения и комитетов городского населения, приняты в 1998 и 1989 гг. соответственно6.
В соответствии с указанными выше законами создание, ликвидация и изменение границ территории находится в ведении народных правительств, значи- тельная часть расходных обязательств комитетов также ложится на плечи исполнительных властных структур. Кроме того, низовые организации КПК играют руководящую роль в реализации полномочий комитетов, а их представители имеют право принимать участие в заседаниях комитетов.
Несмотря на интеграцию институтов низового самоуправления в управленческую вертикаль, они демократичны: должностные лица комитетов выбираются и могут быть отозваны населением, информация об их деятельности публична, население участвует в рассмотрении годовых отчетов и оценке деятельности членов комитетов, может отменять их решения.
С конца 1990-х гг. политическое руководство Китая предпринимает попытки преобразования городских комитетов в территориальные общины, укрупненные организации самоуправления, которые за счет повышения степени автономии смогут в большей степени сконцентрироваться на предоставлении услуг населению. Первоначально они вводились экспериментально в 26 районах Китая, а уже в нулевых годах предполагалось распространить общины по всей стране1. Как показывает практика, на значительной части территории Китая общины так и сохранились в качестве локального эксперимента, не сумев вытеснить комитеты городских жителей.
Значительные усилия по улучшению экономических условий на местах, в частности на сельских территориях, предпринимались с 2006 г. под девизом строительства новой социалистической деревни. Расходы на сельские нужды за 10 лет выросли фактически в 5 раз: 351,72 млрд юаней в 2006 г., 857,97 млрд – в 2010, 1 724,2 млрд – в 20152. Было принято эпохальное решение об отмене сельскохозяйственного налога. Увеличение финансового благосостояния муниципалитетов повысило и степень их автономии и ответственности.
Таким образом, формально в обеих странах создана система местного самоуправления. В Китае она действует только на низовом уровне (сельские и городские комитеты, территориальные общины), аналогами этих институтов в России являются сходы граждан и ТОСы. В России официально декларируется автономия органов МСУ от государственной власти, но предусмотрено много вариантов вмешательства государства в эту сферу.
На практике институты местного самоуправления в России тяготеют к включению в вертикаль власти. Даже формы низовой демократии не способствуют активному общественному участию, в т.ч. по причине не обязательного характера принимаемых населением решений. Обыкновенно инициаторами осуществления практик общественного участия становятся органы местного самоуправления. Таким образом, местное самоуправление утвердилось как форма публичной власти, а не как деятельность граждан.
В этом ключе несколько выделяется территориальное общественное самоуправление (ТОС). ТОСы основаны на самоорганизации граждан для благоустройства мест своего непосредственного проживания, но на практике достаточно слабы, чтобы продвигать интересы населения. По данным Лиги ТОС, на сегодняшний день они действуют в 64 из 85 субъектов РФ, всего зарегистрировано более
20 тыс. ТОСов1. Основными проблемами в их деятельности являются ресурсная необеспеченность, пассивный характер участия населения, сложность юридической регистрации и неопределенность правового статуса. Последнее усложнено с 2014 г., когда в результате изменений в действующем законодательстве ТОС было приравнено к общественным организациям, что нивелирует его статус как формы непосредственного осуществления населением МСУ.
В Китае местное самоуправление реализуется при помощи низовых институтов, система которых является крайне децентрализованной. По словам Т.В. Котельниковой, «среди множества предлагаемых вариантов можно выделить две основные модели – “шанхайскую”, где широко используются административные методы управления, и “шэньянскую”, сориентированную на развитие низового самоуправления» [Котельникова 2010: 11]. Наиболее распространенной моделью в КНР является шанхайская, где общины подчинены органам власти.
При этом в КНР в последние годы повышается степень децентрализации институтов местного самоуправления, комитетам жителей и территориальным общинам предоставлено достаточно много прав и возможностей при реализации локальных экспериментов. Последние активно субсидируются государством (по некоторым данным – от 50 до 70% на каждый проект [Ahlers, Schubert 2015], однако ответственность за эти эксперименты и инновации по большей части несет окружной уровень. Так, например, еще с 1995 г. в деревне Чжан Фанцюань была реализована процедура ежемесячного опубликования доходов и расходов местного бюджета, которая позднее распространилась в ряде других муниципалитетов КНР.
Так или иначе организации самоуправления Китая являются по-своему уникальными: они практически не занимаются предоставлением жилищнокоммунальных услуг, а в основном сосредоточены на создании небольших социальных учреждений (столовых, домов инвалидов, детских садов). По итогам 2014 г. в Китае насчитывается 682 тыс. различных организаций низового самоуправления, что на 2,2% превышает показатели 2013 г.2 В целом наблюдается постепенный рост числа подобных организаций.
Низовая демократия в Китае оказалась лицом к лицу с целым рядом трудностей, значительная часть которых связана с противоречиями между выборными лицами и партийными представителями, пассивным участием населения, дублированием функций комитетов и общин, с одной стороны, и партийных организаций – с другой, а также с коррупционными махинациями наиболее обеспеченной части жителей с целью повлиять на исход голосования.
Таким образом, система местного самоуправления России и Китая имеет как различия, так и точки соприкосновения. Россия принимает институт местного самоуправления в его идеальной форме, максимально приближает формулировки к западным образцам. Однако на практике самоуправление ограничивается как формально, так и неформально. В ходе продолжающегося реформиро- вания МСУ усиливается степень государственного вмешательства и ограничение возможностей населения воздействовать снизу на органы власти. С формальной точки зрения система МСУ РФ включает как органы МСУ, так и формы непосредственного осуществления населением МСУ и участия в них граждан. В Китае и формально, и фактически МСУ осуществляется только на низовом уровне.
В отличие от России, в Китае предпринимаются серьезные попытки повышения степени обеспеченности муниципалитетов и их ответственности за реализуемые инновации. В этом смысле система МСУ КНР гораздо более децентрализована, нежели российская. На низовом уровне территориальным общинам, комитетам городского и сельского населения Китая предоставлено гораздо больше возможностей для реализации своих полномочий, чем российским ТОСам.
Возвращаясь к поставленным в начале статьи вопросам, заметим, что ни в одном из государств институт МСУ не играет роль института общественного участия аналогично существующему в западных странах. В обоих случаях это обусловлено условиями институциональной среды. При этом за счет политики децентрализации и некоторой экономической независимости китайские органы МСУ в большей степени способствуют проявлению гражданской активности, чем российские.
Статья подготовлена в рамках исследовательского гранта РГНФ № 14-33-01028 «Западные управленческие модели в институциональной среде современного Китая: опыт для России».
Список литературы Местное самоуправление как институт публичного участия: траектории развития в России и Китае
- Гельман В., Рыженков С., Белокурова Е., Борисова Н. 2008. Реформа местной власти в городах России, 1991-2006. СПб: Норма. 367 с
- Котельникова Т.В. 2010. Инновационный компонент в функционировании китайских территориальных общин в аспекте традиционной культуры. -Вестник ЧитГУ. № 2(65). С. 10-13
- Ahlers A.L., Schubert G. 2015. Effective Policy Implementation in China’s Local State. -Modern China. Vol. 41. No. 4. P. 372-405