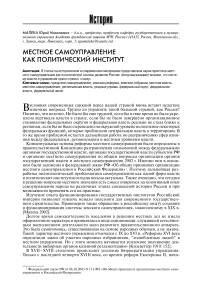Местное самоуправление как политический институт
Автор: Малека Юрий Николаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 8, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье на историческом и современном материалах представлена характеристика местного самоуправления как политической основы развития России. Автор высказывает мнение, что систему власти и управления нужно строить «снизу».
Городское самоуправления, земская реформа, земские собрания, местная власть, местное самоуправление, региональная власть, уездные управы, федеральный округ, федеральная власть, федеральный закон
Короткий адрес: https://sciup.org/170168055
IDR: 170168055
Текст научной статьи Местное самоуправление как политический институт
В условиях современных санкций перед нашей страной вновь встают нелегкие извечные вопросы. Трудно ли управлять такой большой страной, как Россия? Понятно, что нелегко. Но было бы еще трудней, если бы в свое время не была укреплена вертикаль власти в стране, если бы не было завершено организационное становление федеральных округов и федеральная власть реально не стала ближе к регионам, если бы не было переведено на окружной уровень исполнение некоторых федеральных функций, которые приблизили центральную власть к территориям. В то же время проблемой остается дальнейшая работа по разграничению сфер влияния между федеральным, региональным и местным уровнями власти.
Концептуальные основы реформы местного самоуправления были определены в правительственной Концепции разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления по общим вопросам организации органов государственной власти и местного самоуправления 2002 г. Именно они в основном были заложены в федеральный закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 1 . Поэтому дальнейшая разработка политологической проблематики самоуправления как одной форм власти и политических институтов сегодня весьма актуальна. Также очевидно, что сегодня в решении вопросов местного значения есть смысл опираться на позитивный опыт самоуправления народа на различных этапах социальной истории России и при возможности применять его на практике.
Изучение опыта функционирования государственных институтов Российской империи позволяет извлечь немало полезного для современного государственного строительства. Правомерно также обращение к российскому опыту создания и функционирования системы земского самоуправления, накопленному в XIX в. [Малека 2002].
Долгое время самодеятельность населения в решении местных дел не имела оформленного характера и проявлялась в виде самопомощи, служившей естественным восполнением деятельности мало развитого правительственного аппарата. Это была самопомощь, существовавшая на основе народных обычаев, а не закона. Такой характер местного управления отмечался с IX по XVI в. «Реформы XVI века определили закон об участии народных избранников, “излюбленных людей” в местном управлении. Но с этого момента начинается усиленное подчинение деятельности выборных органов казенной регламентации» [Кизеветтер 1910: 152].
В XVII–XVIII столетиях происходит усиление бюрократизации управления. Только с последней четверти XVIII века, со времен реформ Екатерины II, начи- нается поворот на новый путь1. Органы самоуправления, признанные и установленные законом, мало-помалу отходят от роли пассивных исполнителей казенных поручений и получают известную сферу более или менее самостоятельной деятельности. В учреждениях, созданных при Екатерине II, эти новые начала получили скорее принципиальное признание, чем практическое осуществление.
Политический смысл постепенного усиления местной власти в Российской империи в это период скорее заключался в вынужденном реформировании государственной власти, а не был продуманным, целенаправленным политическим проектом. Действительно, сословная разобщенность и господство крепостнического произвола во всех сферах жизни препятствовали расцвету самоуправления. С уничтожением крепостного права и всеобщим обновлением государственного быта настала, казалось, пора для утверждения местного самоуправления на твердых началах правопорядка. Однако непоследовательность и незаконченность законодательных начинаний середины XIX в. не дали предполагаемых результатов. В то время историки утверждали, что будущее – за самодеятельным и демократическим земством.
С падением крепостного права открывалась возможность сделать новый поступательный шаг в развитии местного самоуправления. Земская реформа как продолжение реформы крестьянской являлась предметом всеобщих ожиданий. Особая комиссия приступила к составлению Положения о земских учреждениях. И с 1864 г. начинается новый период в истории местного управления в России. Земские учреждения XIX в. должны были существенно отличаться от предыдущих учреждений. К чему сводилось содержание Земской реформы? В соответствии с Положением о губернских и уездных земских учреждениях от 1 января 1864 г. на местах создавалась система выборных органов самоуправления. Она состояла из губернских и уездных земских собраний, которые избирались на 3-летний срок и созывались на пленарное заседание 1 раз в год. Эти собрания были скорее представительными органами местной власти. Исполнительными же органами земских собраний являлись губернские и уездные управы. Это были постоянно действующие учреждения с 3-летним сроком полномочий.
Введение земских учреждений по Положению 1864 г. раздвинуло рамки общественной самодеятельности в сфере местного управления. Достаточно указать хотя бы на то, что народные школы, народные библиотеки, народные больницы были созданы в рамках русского дореформенного земства. Однако в законодательных актах «освободительной эпохи» были заложены семена столь быстро восторжествовавшей затем реакции. Не случайно комиссия по организации земских учреждений работала вначале под председательством Н.А. Милютина, а завершила свою деятельность под руководством П.А. Валуева. Смена лиц означала особую смену правительственного курса. Нельзя не согласиться с высказыванием о том, что «государственный аппарат, сосредоточивавший в своих руках все большую власть, имел немало возможностей для сопротивления переменам, даже если эти перемены были провозглашены и поддерживались императором» [Ляшенко 1994: 152].
Вопрос о земской реформе был поставлен вслед за первыми гласными распоряжениями об устройстве быта сельского сословия. 25 марта 1859 г. последовало высочайшее повеление о преобразовании уездного и губернского управления. При этом было указано: «…необходимо представить хозяйственному управлению в уезде большую самостоятельность и большее доверие. При чем надлежит определить степень участия каждого сословия в хозяйственном управлении уезда».
Предварительная разработка земской реформы была возложена на особую комиссию по губернским и уездным учреждениям, образованную 27 марта 1859 г. при Министерстве внутренних дел. Для работы над документом потребовалось целых 3 года, и в начале 1862 г. проект Положения о земских учреждениях был готов. 15 марта того же года он был представлен в Совет министров, а затем рассмотрен на особом совещательном собрании Совета под председательством великого князя Константина Николаевича. 2 июля 1862 г. основные положения предстоящей реформы получили высочайшее одобрение и осенью были опубликованы в печати. 26 мая 1863 г. окончательный проект был подан в Государственный совет, где был рассмотрен при участии столичных губернских предводителей дворянства и городских голов. 1 января 1864 г. Положение о земских учреждениях получило силу закона и затем постепенно вводилось в 34 губерниях.
П.А. Валуев, став министром внутренних дел, не скрывал своего истинного отношения к этой важной реформе «освободительной эпохи». Он открыто заявлял, что введением земских учреждений правительству связываются руки. 1 января 1864 г. он так записал в своем дневнике: «Положение о земских учреждениях утверждено, причем во многих важных вопросах государь принял мнение, противоположное моему мнению. Если бы у меня сохранились некоторые иллюзии, то они бы теперь должны были рассеяться… Остается выдержать характер и роль до известного момента» 1 . Положение 1864 г. фактически не предоставляло земским учреждениям права издавать обязательные постановления и приводить их в исполнение при посредстве собственных органов.
Ведению земства должны были подлежать исключительно дела местного хозяйства. Так, в Положении о губернских и уездных земских учреждениях это было определено в следующих выражениях: «местныя хозяйственныя пользы и нужды каждой губернии» 2 . К хозяйственным делам были отнесены: заведование имуще-ствами, капиталами и денежными сборами земства; устройство и содержание принадлежащих земству зданий, путей сообщений; меры по обеспечению народного продовольствия; заведование земскими благотворительными заведениями и прочие меры призрения, способы прекращения нищенства, попечение о строительстве церквей; управление делами взаимного земского страхования имуществ и т.д. Итого 14 пунктов, которые можно свести к следующим главным: это право земских учреждений быть юридическим лицом; быть распорядительным, исполнительным, отчасти законодательным органом относительно «губернского хозяйства и тягостей, налагаемых на губернию государством, – словом, земских повинностей»; право заведования благотворительной частью; право участия в развитии просвещения, промышленности, торговли, народного здравия, полиции охранительной; право представительства по нуждам края.
Даже в очередных рамках деятельность земских учреждений не получила полной свободы. Так, например, в области народного образования земству представлялось собирать суммы на расширение школьного дела, но в распоряжении этими суммами права земства ограничивались. Большим тормозом для развития деятельности земств явился закон от 22 ноября 1867 г., ограничивавший обложение торговых свидетельств и патентов и этим переместивший тяжесть обложения на землю.
Наконец, вопрос об отношениях земских учреждений и органов власти разрешился в Земском положении не в их пользу. Хотя в предварительных «Соображениях» было сказано, что правительственный контроль над деятельностью земства должен ограничиваться наблюдением за законностью земских постановлений, однако в Положении начальнику губернии было предоставлено право останавливать постановления земских учреждений, не только «противные» законам, но и не «согласные», по мнению начальника губернии. Губернатор утверждал сметы земских собраний, кроме того, по целому ряду вопросов постановления земских собраний не могли приводиться в исполнение без утверждения начальником губернии, а в некоторых случаях – и министра внутренних дел.
Во многих губерниях переданные земству средства не превышали 40–50 тыс. руб., а содержание земских учреждений обходилось в 80–100 тыс. Земства, считая себя полноправными хозяевами на местах, попытались возложить эту разницу на промышленные и торговые предприятия. Последовала соответствующая реакция правительства. В 1867 г. петербургское земство, первым пытавшиеся изыскать дополнительные средства, было закрыто, а его дела переданы в старые присутственные места1. С 1 января 1864 г., когда Положение о земстве стало законом, и до 1910 г. оно было введено только в 33 губерниях и в области войска Донского.
В атмосфере недоверия к началам общественного самоуправления готовилась законодательная переработка Земского положения 1864 г., и потому не было ничего удивительного и неожиданного в том, что новое Земское положение 1890 г. не ослабило, а еще более усилило реакционные элементы, вкравшиеся в земское устройство. «Положение 1890 года устранило тот основной взгляд на характер земских учреждений, как на частные хозяйственные союзы, на которых была построена первая земская реформа» [Кизеветтер 1910: 159]. Данное Положение придало земским учреждениям подобающее им значение правительственных установлений, но работало оно соответствии с реакционным направлением внутренней политики того времени (так, хотя Положение 1890 г. и предоставляло земским учреждениям право издания обязательных постановлений, но только с разрешения государственной власти).
Реформа городского самоуправления прошла приблизительно те же стадии, что и реформа земских учреждений. Ее подготовка заняла более 10 лет. После утверждения в июне 1870 г. Городовое положение приобрело силу закона. В соответствии с ним более чем в 500 городах России были созданы выборные бессословные органы городского самоуправления – городские думы, которые избирались сроком на 4 года. Дума на своем заседании избирала свой исполнительный орган – городскую управу, работавшую на постоянной основе. Городской голова одновременно являлся председателем думы и управы. Городовое положение 1870 г., представляя собой крупный шаг вперед в деле развития общественного самоуправления в сравнении с дореформенным порядком, также отразило в своем содержании некоторые колебания между новым и старым.
Согласно закону, городские думы были ответственны за муниципальные финансы, коммунальные строения, социальное обеспечение, здравоохранение и образование. Положение о выборах полностью игнорировало сословное деление в пользу имущественного ценза. Крупным недостатком данной избирательной системы являлось и то, что права голоса лишались все, кто арендовал жилье, а в эту категорию попадали многие известные ученые и люди творческих профессий. Но в то же время эта система предусматривала базу для самоуправления, свободного от официально определенных категорий. Более того, губернатор и казначейство теперь могли оспаривать решения муниципальных властей только на основании их незаконности.
В других же отношениях городское самоуправление сохранило множество недостатков, мешавших и прежде. Ограничивалось право собирать дополнительные доходы, а полиция, от которой зависело проведение в жизнь многих решений, оставалась в распоряжении губернатора. Более того, и губернаторы, и полицейские начальники отнюдь не всегда соблюдали ограничения, наложенные законом 1870 г. Во многих случаях руководители городов вынужденно уходили со своих постов после того, как вызывали недовольство властей. Примечательна в этом отношении история с городским головой Москвы Б. Чичериным, который в 1883 г. в одной из своих речей призвал к объединению усилий земства и городского самоуправления, – он был вынужден уйти в отставку.
В этот период времени только одна группа в империи смогла создать собственную автономную политическую жизнь и одновременно своеобразное представление о национальном единстве – это московские купцы. В 1860–1870-х гг. московское купечество активно выступало за национальную экономическую политику протекционных импортных тарифов и государственной поддержки. Одним их главных защитников такой точки зрения был В.А. Кокорев, доказавший, что государство должно, если этого требуют обстоятельства, отпечатать дополнительные рубли для финансирования строительства железных дорог и т.п.
Способность к эффективному самоуправлению и усиленное лоббирование среди правительственных чиновников дали московскому купечеству возмож- ность защитить свои интересы и содействовать достижению некоторых политических целей. Однако это не помогло сформировать торговый средний класс, способный заменить дворянство в качестве главной социальной базы режима. Не получили они и контроль над официальной экономической политикой, хотя и оказывали влияние на ее определенные аспекты. Городовое положение 1892 г. ввело некоторые технические улучшения в отдельные стороны устройства городского самоуправления.
Из сказанного выше можно сделать определенные выводы. Во-первых, земское и городское самоуправление оставило глубокий след в социальной истории нашей страны. Представители этого управления видели связь местных интересов с общегосударственными. Институты земского и городского самоуправления явились зачатками гражданского общества в России. Их возникновение связано с попытками реформирования государственного управления в соответствии с требованиями нового времени.
Во-вторых, хозяйственная и социальная деятельность земских собраний и городских дум, их исполнительных учреждений показала, что государственная власть в одиночку, без системы самоуправления народа не в состоянии обеспечить динамичное общественное развитие. Сегодня становление этой системы возможно только в условиях взаимного доверия между высшей властью и гражданами страны. При игнорировании этого фактора в России скорее всего будет усиливаться аномия (состояние общества, при котором значительная его часть сознательно нарушает нормы этики и права).
В-третьих, один из важных современных политических уроков состоит в настоятельной необходимости передачи функций непосредственного жизнеобеспечения самому обществу в лице муниципальных органов. Именно эти органы способны воспринять, продолжить и творчески развить традиции земских и городских учреждений самоуправления в России.
В-четвертых, не имеющая собственной финансово-экономической основы (например, в виде специальных налогов) система местного самоуправления малоэффективна. При всей дискуссионности, этот вопрос в целом ряде стран решен успешно, и на деятельность именно местной власти собирается значительное количество налогов.
В-пятых, Российская Федерация имеет своеобразный исторический опыт местного самоуправления, который значительно отличается от западного. Понятно, что развитие различных ветвей человеческой цивилизации идет в разных частях планеты с разной скоростью и по-разному. Но здесь можно согласиться с социологом А.А. Зиновьевым, который писал: «Эволюционный процесс не является результатом свободного выбора. Его направленность определяется в результате ожесточенной борьбы различных сил в течение десятилетий и веков» [Зиновьев 2000: 87]. Поэтому нашей власти и нашему народу предстоит еще много бороться: за свои интересы, за свои права и, наконец, за свое достоинство.
Список литературы Местное самоуправление как политический институт
- Зиновьев А.А. 2000. На пути к сверхобществу. М.: Центрполиграф
- Кизеветтер А.А. 1910. Местное самоуправление в России: исторический очерк. М
- Ляшенко Л.М. 1994. Царь-освободитель. Жизнь и деяния Александра II. М
- Малека Ю.Н. 2002. Исторический опыт организации местного самоуправления. Некоторые проблемы управления социальными процессами в Российской империи (XVIII -начало XX веков): монография. М.: МГСУ