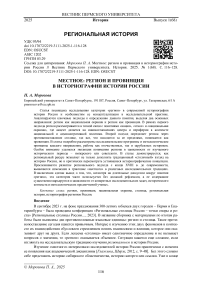Местное: регион и провинция в историографии исто-рии России
Автор: Морозова П.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Региональная история
Статья в выпуске: 1 (68), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию категории «регион» в современной историографии истории России и особенностям ее концептуализации в исследовательской практике. Анализируются ключевые подходы к определению данного понятия, выделяя два основных направления: регион как национальная окраина и регион как провинция. В рамках первого подхода регион рассматривается в тесной связи с понятиями «нация», «этнос» и «национальная окраина», где акцент делается на взаимоотношениях центра и периферии в контексте национальной и административной политики. Второй подход определяет регион через противопоставление столице, где все, что находится за ее пределами, понимается как провинция. В статье подробно рассмотрены исследовательские программы и методологические принципы каждого направления, работы как отечественных, так и зарубежных историков. Особое внимание уделяется эволюции понимания региона в зависимости от изучаемого исторического периода – имперского или советского. В статье демонстрируется, как региональный ракурс позволяет не только дополнить традиционный «столичный» взгляд на историю России, но и критически пересмотреть устоявшиеся историографические концепции. Прослеживается развитие регионального подхода с конца XVIII в. до современности, выявляются изменения в трактовке «местного» в различных исследовательских традициях. В заключении сделан вывод о том, что, несмотря на длительные дискуссии вокруг понятия «регион», эта категория часто используется без должной рефлексии, а ее содержание существенно варьируется в зависимости от конкретных исследовательских задач, исторического контекста и методологических предпочтений ученых.
Регион, провинция, национальная окраина, столица, региональная история, историография регионов России
Короткий адрес: https://sciup.org/147247323
IDR: 147247323 | УДК: 93/94 | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-1-116-128
Текст научной статьи Местное: регион и провинция в историографии исто-рии России
В сентябре 2023 г. на фоне празднования 300-летних юбилеев двух городов – Перми и Екатеринбурга ‒ была проведена конференция «Региональные столицы России – точки опоры и роста» [Региональные столицы России…, 2023]. В название сборника с материалами по итогам работы были вынесены две противоположные языковые единицы: регион и столица. Такое противопоставление сегодня кажется привычным. Интерес к изучению этих двух феноменов в контексте их взаимодействия обусловлен стремлением понять взаимосвязи и влияние, которое они оказывают друг на друга. Если лексема «столица» имеет однозначное определение и не вызывает вопросов о значении, то «регион» оказывается объемнее. Ситуация кажется еще сложнее, если взглянуть на исследовательскую традицию изучения регионального в истории России.
Изучение «местного» интересовало исследователей истории России практически с момента ее появления как академической дисциплины [ Глаголева , Ширле , 2012, с. 9‒48]. Без этого сложно себе представить историю сибирского областничества, историю каторги или ссылки. Уже в конце
XVIII в. историки из провинции вполне профессионально изучали местные края1. В 1830-е гг. Вадим Васильевич Пассек одним из первых предложил изучать регионы и области России через путешествия, археологические исследования и сбор этнографических данных [ Пыпин , 1890, с. 333‒337]. Он настаивал на том, что историю России можно понять только через призму истории жизни в регионах. Изучение местного края с разным успехом продолжалось до 1930-х гг. и возродилось в 1960-е. С начала 1980-х гг. интерес к региональным материалам постепенно преодолевал рамки краеведения. 1990-е стали периодом большого количества конференций, дискуссий и круглых столов о локальной истории. Архивный бум 1990-х гг. привел к появлению новых дискуссий о регионах, провинциях, городах и местностей за пределами двух столиц.
К настоящему времени накоплен достаточно большой опыт обращения к региональным материалам для исторических исследований. Обсуждения исследовательских программ «Региональная история», «Местная история», «Краеведение», «Новая локальная история» проходят с завидной регулярностью [ Smith-Peter , 2004, р. 527‒542; Маловичко , Румянцева , 2012]. Достаточно часто публикуются и их программные манифесты [Региональная история, локальная история..., 2012]. В недавней работе Л. П. Репина [ Репина , 2019] предложила рассматривать региональную историю через призму «новых пространственных историй», где регион анализируется не как данность, а как результат активности элит и сложных социальных взаимодействий. По мнению исследовательницы, противоречивые определения региональной истории и ее предмета отражают существующие в современной науке различия в трактовках самого понятия «регион» ‒ от его пространственных масштабов до дифференциации на внутригосударственные и надгосударственные единицы.
Несмотря на длительный процесс изучения регионов, далеко не каждый автор рефлексирует собственную позицию по отношению к основной единице анализа, к категориям «регионального», «местного» и «локального». Большинство авторов, работая с понятием «регион», не объясняют его смысл, используя в обычном, общеупотребительном значении.
Развивая тезис Л. П. Репиной о множественности трактовок понятия «регион» в современной историографии, в данной статье нами предпринимается попытка систематизировать и проанализировать различные способы концептуализации этой категории в историографии истории России.
Цель статьи – показать, как концептуализируются и соотносятся между собой понятия «регион» и «провинция», какие исследовательские вопросы решаются благодаря привлечению регионального материала и с какими трудностями сталкиваются исследователи. Задача – определить, как меняются (если меняются) исследовательские принципы работы с понятием «регион» в зависимости от исторической эпохи ‒ имперский или советский период истории России.
Гипотеза заключается в том, что в историографии преобладают два ключевых подхода к рассмотрению региона. Первый связан с национальным аспектом. Второй– это изучение региона в контексте провинции, т. е. в отношении местности, отличной от столиц. В связи с этим статья разделена на две основные части: «Регион как национальная окраина» и «Регион как провинция». Каждый из этих разделов схематично делится на три смысловых блока. В первом анализируются работы, авторы которых дают разные определения понятию «регион». Во втором блоке приведены примеры исследовательской оптики: какие вопросы и задачи ставят перед собой историки в связи с обращением к изучению регионов? В заключение уделяется внимание критике исследований каждого подхода.
В современной историографии истории России в значительной части исследований используется понятие «регион» в его общеупотребительном, интуитивно понятном значении как территориально-административной единицы. В таких работах, написанных преимущественно на материалах региональных архивов, «регионом» может выступать и отдельный город [Лейбович, 2008], и область [Минаков, 2011], и село [Хок, 1993], и советская республика [Камерон, 2020], и даже группа областей или городов [Нарский, 2001]. Авторы этих исследований не ставят своей задачей концептуальное осмысление самой категории «регион», полагая достаточным ее использование в качестве общепринятого термина. В качестве характерного примера можно привести недавно переведенную на русский язык работу о функционировании советской власти в регионах, где, несмотря на то что вся концепция исследования строится вокруг регионального измерения политической системы СССР, сама категория «регион» используется авторами исключительно в административно-территориальном смысле, без ее теоретического осмысления [Хлевнюк, Горлиц-кий, 2024] Подобный подход к региону как самоочевидной территориальной единице, не требующей специального концептуального анализа, характерен для значительного массива исследований на региональных материалах ‒ от работ о культурной жизни отдельных городов до масштабных исследований социально-экономического развития целых областей и республик.
Сконцентрируемся на работах, где понятие «регион» объемно и многозначно. В фокусе данной статьи находятся исследования, в которых авторы целенаправленно рефлексируют над данным понятием, пытаются определить его как самостоятельную аналитическую категорию и используют в качестве исследовательского инструмента. Через многообразие трактовок мы надеемся увидеть, какие методы и подходы исследователи используют при анализе локальных территориальных единиц. Именно это позволяет выявить, как в историографии концептуализируется региональное измерение российской истории и какие исследовательские перспективы открывает осмысленное использование категории «регион».
Преобладание в статье анализа работ по имперскому периоду России объясняется тем, что именно в этом историографическом поле в последние годы наиболее активно развивается тенденция «пересборки» отечественной истории через региональную оптику, в то время как в исследованиях советского периода этот поворот только намечается. Это неслучайно: изучение национальных окраин империи оказывается ключевым для понимания процессов нациестрои-тельства, механизмов имперского управления, а также формирования коллективных идентичностей и самоопределения различных социальных групп.
Развитие концептуального осмысления понятия «регион» в историографии истории России происходило и продолжает происходить в тесном диалоге отечественных и зарубежных исследователей. В работе рассматриваются труды историков вне зависимости от их институциональной принадлежности: важен их вклад в теоретическую разработку исследуемого понятия применительно к российской истории.
Регион как национальная окраина
Недавно вышедшая монография коллектива авторов о регионах Российской империи [Регионы…, 2021] определяет регион как аналитическую категорию, подобно понятиями «нация», «государство»: «Это в такой же степени конструкт, как и любая другая определенная человеком часть пространства. Он сочетает в себе реальные и воображаемые политические, социальные, культурные и экономические отношения и функционирует в рамках целого ряда возможностей» [Там же, с. 16]. Авторы сборника на разных примерах показывают, что «каждый регион ‒ это отдельный мир, который все же не принадлежит лишь самому себе, а его история не обязательно противопоставлена той, что может быть написана в столице» [Там же, с. 23].
-
А. И. Миллер призывает очерчивать границы региона в зависимости от изучаемого процесса. Фокус внимания такого исследования может быть на конкретной управленческой структуре, межнациональных контактах, взаимодействии между несколькими акторами в области этнокультурных или этноконфессиональных отношений. В этом случае определение границ становится вторичным по отношению к предмету анализа. Такой ситуационный подход, где акторы, а не конкретное пространство, выступают объектом исследования, получил развитие в историографии под названием «новая имперская история».
В фокусе внимания этого подхода оказались вопросы взаимодействия центра и периферии, проблемы пространства и границ, механизмы управления многонациональной империей. Особенность «новой имперской истории» заключается в отказе от жесткой дихотомии «центр ‒ периферия» в пользу более сложной модели взаимоотношений между различными частями империи. Предлагается рассматривать империю не как застывшую структуру, а как динамическую систему взаимодействий между различными акторами. В рамках этого подхода особое внимание уделяется изучению механизмов интеграции различных территорий в имперское простран- ство, практикам управления этническим и конфессиональным многообразием, а также формированию имперских идентичностей.
Одним из первых сборников стала книга «Западные окраины Российской империи», открывшая в 2006 г. серию книг издательства «Новое литературное обозрение». В коллективной монографии «регион» скорее определяется как окраина Российской империи. Ее территория не совсем совпадает с административными единицами: «Наше понятие западных окраин включает в себя Западный край, но отнюдь им не исчерпывается. В географическом смысле рассматриваемый нами регион охватывает все земли, которые некогда входили в состав Речи Посполитой. ˂…˃ предметом же нашего исследования является проблематика Российской империи, т.е. отношение имперского центра и этих окраин, их взаимовлияние» [ Миллер , Долбилов , 2006, с. 13‒14]. Понятие «западные окраины» географически включает в себя Западный край, Царство Польское и Малороссию, так как предметом исследования является проект соперничества русского и польского национального строительства. Авторы изучают процесс его развития, реконструируя взаимодействия разных акторов. Понятие «регион» не отождествляется с географической областью и не ограничивается территорией конкретного края Российской империи, а скорее вбирает в себя и элементы политического управления, и этноконфессиональные особенности населения. Ситуационный подход меняет традиционный способ исследования, когда большинство ученых изучают деятельность одного человека или организации. Вместо этого ситуационный подход изучает структуру, методы и логику взаимодействия разных участников, чтобы лучше понять, как они взаимодействуют друг с другом [ Миллер , 2006, с. 22].
Этот подход получил развитие в работах А. В. Ремнёва [ Ремнёв , 2004, с. 6‒13]. Он предлагал изучать Сибирь как целостный регион, вне его привязки к административнотерриториальному делению. По мнению исследователя, регион можно определить через образы пространства. В основе подхода лежит концепция воображаемой географии, где регион не столько историко-географическая область, сколько ментальная конструкция с динамичными, трудно определимыми границами [Сибирь…, 2007, с. 13]. Административное деление для исследований этого подхода вторично по отношению к образам Сибири в их символическом восприятии.
В этом направлении существует несколько способов построения дорожной карты исследования. Сторонников такого взгляда на регион интересуют вопросы о способах и эффективности имперской бюрократии в разных сферах управления регионами: экономической [ Правило-ва , 2006], религиозной [ Долбилов , 2010], национальной [ Сталюнас , 2022], правовой [ Шаблей , Сартори , 2018] и др. Отдельно рассматриваются сюжеты о трансферах управленческих практик между несколькими национальными окраинами [Imperium Inter Pares…, 2010].
Тем не менее главный принцип дизайна исследований в этом историографическом поле – анализ региона в контексте его связей с центром. Вопросы об эффективности имперской бюрократии и разных способах управления регионами остаются ключевыми для данного подхода. Большое внимание к изучению отношений между центром и периферией в ущерб другим сюжетам продиктовано историческим процессом. Империя владела различными территориями, осуществляя их властное подчинение и последующую интеграцию в свое политико-административное пространство. Сторонники этой концепции утверждают: чтобы понять ее материю и принципы устройства российского имперского пространства, следует изучать ее регионы.
Одни из возможных ответов на эти вопросы можно найти в фундаментальной монографии об экономической политике правительства Российской империи в регионах [Центр и регионы…, 2021]. Вслед за дореволюционными историками начала XX в. коллектив авторов придерживается определения, в основе которого лежит восприятие региона как национальной окраины. В серии книг под руководством А. И. Миллера окраины связаны прежде всего с этническими и национальными особенностями, в то время как для авторов из Санкт-Петербургского государственного университета окраина означает все, что находится на краях большой империи. В отличие от сборника под редакцией А. И. Миллера, территории, где проживает преимущественно русское население, не исключаются из основного внимания. Так, в один ряд окраин включаются русский Дальний Восток, Средняя Азия, Кавказ, Западный край и Прибалтика. На протяжении всех глав имперская периферия, регион и окраина употребляются в качестве синонимичных форм. Ключе- вой темой для обсуждения остается проблема экономических взаимоотношений центра и регионов. Имперская периферия (она же окраина) рассматривается как вполне активный актор происходивших в ней экономических процессов [Там же, гл. 5, 7, с. 386].
Историография о взаимоотношениях между центром и периферией, где последняя синонимична окраине или региону, достаточно давно находится в сфере внимания и исследователей советского периода. В этом можно убедиться на примере одной из недавних работ, в 2023 г. переведенной на русский язык, о миграциях с окраин в «глобальные советские города» (Москву и Ленинград).
Джефф Сахадео не рефлексирует о понятии «регион», но при этом его исследование вполне может рассматриваться в парадигме понимания региона как «национальной окраины или периферии» [ Sahadeo , 2019]. Автор провел 75 интервью с бывшими советскими гражданами, участниками разного типа миграций (учебных, трудовых, семейных) с окраин. На их основании он убедительно показывает, что, несмотря на лозунг «дружба народов» и отсутствие формальных ограничений для движения как внутри СССР, так и по каналам социальной мобильности, расовая дискриминация и повсеместные сложности с интеграцией в принимающее сообщество были обычными явлениями в жизни мигрантов с окраин [Ibid., ch. 4]. В этом смысле отношения центра и периферии на материалах Дж. Сахадео отражают неравенство между столицами и окраинами.
Для данного подхода (регион как национальная окраина) характерно рассматривать регион без отождествления его с географической областью. Региональный фокус концентрируется на окраинах и/или перифериях, в состав которых может входить несколько крупных городов, губерний и областей. Границы региона задаются в зависимости от объекта исследования. В работах этого подхода рассматриваются разные акторы, вовлеченные в разные процессы ‒ от взаимодействия по вопросам в этноконфессиональной сфере до политического управления. Цель подобных исследований, среди прочего, показать многообразие форм управления национальными окраинами [ Миллер , 2006, с. 23]. В этом направлении регион тесно связан с понятиями «нация», «этнос». Здесь он оказывается типологически ближе к понятиям «национальная окраина» и/или «имперская периферия».
Регион как провинция
-
Е. М. Болтунова отметила, что в историографии сегодня «восприятие категории “регион” в основном “прочитывается” через историю национальностей и языковой политики» [ Болтунова , 2022, с. 240]. «В известном смысле история “окраин” вышла в центр [историографии. – П. М. ], а Центральная Россия при этом так и осталась в “слепой зоне”», ‒ продолжает исследователь [Там же]. Отмечая подобный перекос исследовательского поля в сторону изучения национального , Е. М. Болтунова, однако, не предлагает выхода из создавшегося положения.
Далее сконцентрируемся на работах, где регион анализируется иначе, чем через связь с национальным. В этом историографическом контексте фактор этнической принадлежности жителей территории не рассматривается как основополагающий для определения региона (в отличие от подхода к региону как к национальной окраине). В оптику исследователей попадают и области (Смоленщина), и губернии (Владимирская), и географические районы (Центральное Черноземье), и макрорегионы (Центральная Россия).
Логика осмысления региона здесь выстраивается от обратного: регион определяется как нечто, отличное от столицы. Все, что оказывается за ее пределами, вполне может называться «провинция». Такое восприятие восходит к дореволюционным словарям и журналам, где столичное противопоставляется провинциальному . Под воздействием административнотерриториальной реформы Екатерины II понятие «провинция» перестает быть узкопрофильным термином, получив широкое распространение, проникает в делопроизводство и печать. С конца XVIII в. лексема «провинция» стала использоваться в качестве синонима понятию «деревня», взяв на себя и связанные с ним негативные коннотации [ Ахапкина , 2001, с. 6‒12].
Катерина Евтухова [Evtuhov, 2011] определяет собственную позицию во введении: «Когда я говорю о “провинции”, я имею в виду взаимодействие людей друг с другом и с окружающей средой на территории, не ограниченной Санкт-Петербургом и Москвой» [Ibid., р. 7]. Автор подчеркивает, что ее не волнует различие между понятиями «провинция» и «регион». Ссылаясь на Пола Силльерса, К. Евтухова рассматривает провинцию как сложную систему взаимоотношений с окружением и внутренними компонентами. Такое изучение провинции может помочь в обнаружении ранее неизвестных свойств.
Исследование Евтуховой вступает в диалог с работами С. Смит-Питер. Статья Bringing the Provinces into Focus. Subnational Spaces in the Recent Historiography of Russia [ Smith-Peter , 2011, р. 835‒848] стала одной из пионерских в англоязычной историографии новейшего времени, где исследовательница определила три ключевых термина для обозначения субнациональных пространств: регионы, провинции и локальность. Регион – крупная территория, связанная с другими регионами не только экономическими, социальными и культурными сетями, но и общими представлениями об этом пространстве. Обычно применяется к укрупненным объединениям: Русскому Северу, Дальнему Востоку или Сибири. Провинция – пространство среднего уровня, границы которого определены государством.
Этот же подход к работе с категориями С. Смит-Питер использовала в своей монографии Imaging Russian Regions. Subnational Identity and Civil Society in Nineteenth-Century Russia 2. Исследовательница относит появление provincial identity в России к 1830-м гг. и противопоставляет его идентичности уездной. На страницах местной прессы Владимирской губернии с этого периода начинают появляться материалы о новостях и достижениях региона. Чтение таких газетных заметок в итоге приводило к постепенному формированию локальной идентичности жителей Владимирской губернии вне зависимости от сословной принадлежности.
Тема региональной идентичности также стала основной для обсуждения на страницах историко-политологического сборника о российских провинциях Russia's Regional Identities: The Power of the Provinces . Исследователи придерживаются взгляда на региональную идентичность как на ощущение человеком или группой того, кто мы, определенное в конкретном масштабе (региональном, местном, национальном или глобальном) и закрепленное чувством принадлежности как к историческому повествованию о себе, так и к значимому месту [Ibid., р. 5]. Коллективный труд был опубликован британским научным издательством Routledge [ Clowes , Erbslöh , Kokobobo , 2018]. Это еще один яркий пример подхода к региону как к провинции. В результате дискуссий, начавшихся на конференции в университете Вирджинии в 2015 г., исследователи определили понятие «регионы» как «пространства России за пределами нынешней столицы – Москвы ‒ и столицы периода империи – Санкт-Петербурга» [Ibid., р. 4]. Отталкиваясь от этого определения, авторы по отдельности рассматривают разные аспекты региональной проблематики.
Для К. Пикеринг Антоновой региональное и провинциальное , наоборот, не синонимичные и не взаимозаменяемые формы [ Пикеринг Антонова , 2013]. На примере семьи Чихачёвых автор обращается к анализу поместного дворянства в середине XIX в. и показывает, что для мировоззрения уездного дворянства этого периода были характерны патриотизм и преданность Отечеству, традиционное распределение супружеских ролей, а сословный статус среднепоместного провинциального дворянства был выше, чем купцов, промышленников и чиновников низких рангов. Пикеринг Антонова не использует в своей работе понятие «регион», а под провинцией понимает пространство за пределами столиц и ограниченное конкретным уездом одной губернии (Ковровский уезд Владимирской губернии). В подобных работах К. Пикеринг Антоновой провинция является местом, где происходят самобытные, нехарактерные для столиц (а чаще и для других регионов/провинций) процессы (примеры работ: [ Хок , 1993; Лейбович , 2008]). При таком подходе провинция не противопоставляется столице (или центру), а оказывается самоценным и самодостаточным предметом анализа.
В массовом сознании понятие «провинция» часто воспринимается в негативном ключе (см. подробнее: [Зайонц, 2000, с. 12‒20]). Хотя в современной историографии негативный оттенок термина постепенно исключается. Работы в этом направлении представляют собой попытку изменить негативную оценку провинции на нейтральную. Они выступают в роли реакции на существующее отрицательное восприятие провинции. Авторы стремятся продемонстрировать ее неотъемлемое значение и потенциал, отстаивая статус как равноценного и важного субъекта, далекого от стереотипов о маргинальности и отсталости. Приведем пример двух наиболее успешных работ по преодолению этого стереотипа.
В начале 1990-х гг. А. Севастьянова провела скрупулезный анализ трудов региональных историков, введя в оборот понятие «провинциальная историография». Автор объясняет, что исторические сочинения, созданные на местах, в разных краях и местностях России во второй половине XVIII в. отличались от исторической науки в столицах (Москве и Санкт-Петербурге) и, что немаловажно, от Урало-Сибирского региона [ Севастьянова , 2020, с. 22]. Примечательно, что исследование охватывает только центральную часть страны, к которой А. Севастьянова и применяет собирательное название «российская провинция». Исследовательница намеренно отмечает, что «всякий переносный смысл [для провинции. – П. М .], имеющий негативный характер, в контексте исследования исключен» [Там же]. Предлагая собственную методику изучения провинциальной России с опорой на работы М. Бахтина и А. Гуревича3, А. Севастьянова не рекомендует использовать понятия «провинция» и «регион» как взаимозаменяемые синонимичные формы [Там же, с. 253, 267]. В других работах она также призывает историков сконцентрироваться на изучении микромиров, для которых центр ‒ областной город. При таком подходе «глубокая провинция» соотносится с уездом, волостью, а в советское время ‒ с райцентром [ Севастьянова , 2008].
Концепцию «провинциальной историографии» развивал В. А. Бердинских. По его мнению, труды уездных историков XIX в. ни в чем не уступали, а в некоторых вопросах опережали столичных историографов. Анализируя историографический комплекс провинций европейской части России, В. Бердинских заключает, что ученые-исследователи не из столиц не только осознавали общеисторические тенденции своего времени, но и понимали серьезную значимость собственных исследований.
Для Т. Макдональд Рязань – географическая провинция, определяемая государством [ McDonald , 2011, р. 8]. В работе о политической жизни крестьянства автор анализирует, как отражались процессы нэпа в отдельно взятых деревнях Рязани, каким образом функционировала судебная система и как складывались отношения между местным населением и центром. Политика центра сталкивалась с хаосом и неопределенностью в повседневной жизни и местных условиях. Существующая власть в Рязани имела свои особенности и отличалась от представлений о власти, которые были в Москве. Роль сельских советов в ранней советской России была в достаточной степени велика благодаря ядру крестьян, которые были глубоко вовлечены в местную политику. Местные сельские советы вносили изменения, размывали или просто отменяли многие инициативы, предпринятые центром. В результате этих постоянных изменений, размываний и разочарований политика коллективизации стала в некотором роде реакцией на сложные условия внутри самой провинции (Рязани). Т. Макдональд показала, что подобный образ действий и поступков со стороны местной власти вызывал недовольство со стороны центра, так как такое расхождение было неприемлемо для него.
К. Евтухова на материалах Нижнего Новгорода воссоздала портрет провинциальной жизни России XIX в., не просто описав местные особенности провинции, но и показав, как анализ локального может поставить под сомнение большие историографические вопросы. Так, тезис о России в XIX в. как о малоурбанизированном, «отсталом» и аграрном государстве оказывается несостоятельным, если проанализировать экономические процессы не из центра, а из региона. Или идея о Российской империи как о крайне централизованном государстве без демократических институтов не выдерживает проверки, если сузить исследовательскую оптику до местного. К. Евтухова заключает, что «в пореформенное время и даже в 1840-е гг. местное управление осуществлялось на основе часто продуктивного взаимодействия инициативы центра и реакции местных властей» [ Evtuhov , 2011, р. 249].
Шарлотта Хенце для анализа выбирает Саратовскую губернию (преимущественно город – Саратов), чтобы проанализировать эпидемию холеры 1892 г. [Henze, 2010]. На местном материале она показывает, что тема эпидемий стала важным полем диалога между местной и центральной властью. Так, пандемии оставались вопросом не только медицинским, но и политическим для империи. По мнению исследовательницы, высокие уровни неурожая, голода и нище- ты в Саратове и его расположение на Волге (торговые пути) сделали город эпидемиологической магистралью, значит, выбор объекта исследования был очевиден. В этом смысле пример волжской столицы может быть типизирован в качестве регионального опыта борьбы с заболеванием. Исследование Ш. Хенце наглядно показывает, как большая историографическая тема может быть изучена исключительно на местном материале.
Взгляд на региональное как на более отсталое, бедное, менее просвещенное и пассивное подвергается ревизии. При таком подходе столица остается неким идеалом во всех отношениях: культурном, экономическом и др. А регион совпадает с чем-то слабо развитым и лишенным собственной субъектности [ Белоусов , 2000]. В целом рассмотренные выше исследования ставят под сомнение тезис о регионе как о чем-то стоящем ниже на лестнице прогресса.
В своих исследованиях Макдональд, Евтухова предлагают перенести фокус внимания на регионы и рассмотреть большие историографические вопросы на региональных материалах. Подобное смещение оптики приводит к оспариванию историографических заключений, сделанных на основе анализа исключительно центральных материалов и источников. Таким образом, изучение регионов рассматривается как альтернативный способ выстраивания исследования, который может открыть новые ракурсы и предложить иные трактовки исторических событий.
Детальное изучение отдельно взятой провинции приводит к нескольким ограничениям. Анализируя материалы конкретного региона (в значении «провинция»), исследователи зачастую замыкаются на нем. Выводы таких работ содержат перечисление особенностей, характерных только для отдельно взятой губернии и/или области. Закономерно возникающий в этом случае вопрос о том, будут ли черты провинции Y релевантны при описании провинции X , требует внимания к сравнительному контексту. Пока что в историографии немногочисленны работы, где используется компаративный метод для сопоставления нескольких регионов.
Отвечая на критику в адрес работ, С. Смит-Питер и Е. Евтухова подчеркивали, что через изучение региональной мозаики получится «пересобрать» историю России заново, увидеть ее значительно отличающейся от того образа, который сформирован историографией «из центра». В таком случае требуется глубокая длительная историографическая работа, которая соберет воедино все эти разрозненные региональные пазлы.
Заключение
Исследования регионального и местного зачастую служат ценным дополнением к гранд-нарративам исторического повествования, обогащая наше понимание прошлого. Распространена практика, когда локальное становится подтверждением глобального . Лишь изредка встречаются исследования, где фокус на региональном и провинциальном позволяет открыть нечто новое или ответить на сложный историографический вопрос, что подчеркивает важность изучения местных материалов.
Первый подход к категории «регион» тесно связан с понятиями «нация», «национальность», «этнос». Такой способ исследований остается востребованным для имперской истории России. Здесь исследователи смотрят на те регионы, где сложились сильные национальные проекты, существовали механизмы для реализации национального суверенитета или, например, заметна ярко выраженная национальная память. В этом смысле критерием выделения региона чаще всего выступают элементы политического управления и этноконфессиональные особенности населения. Свою роль для выделения регионов как отдельных единиц политического управления сыграла и официальная номенклатура.
Для историографии XVIII в. регион синонимичен провинции4. Для исследований имперского периода есть два главных направления работ: регион в понимании национальной окраины и регион в контексте провинции. В советской историографии нет явно выраженных подходов к пониманию региона. В этом поле данное понятие может обозначать и национальную республику, и местность за границами столиц, и конкретный город. На наш взгляд, такое положение в историографии напрямую связано с источниковой базой исследователей. В XIX в. одновременно идут процессы нациестроительства и увлечения историей регионов на разных уровнях (провинциальная историография и сибирское областничество). В XX в. государствен- ная система и политическое устройство усложняются, а вместе с ними и понятие «регион» наполняется дополнительными значениями, ассоциируется не только с национальными окраинами и провинциями, но и с промышленными районами, сельскохозяйственными областями. Регион как понятие является частью эпохи; через изменение его смыслов можно заметить и изменения фактов времени. Более того, из понятийного аппарата советской эпохи уходит «провинция» и заменяется на «город». Появляется понятие «региональная столица» ‒ город, выполняющий функции центра и связующего звена конкретной области с большой столицей ‒ Москвой.
Для одних авторов (Пикеринг, Евтухова, Смит-Питер) регион абсолютно синонимичен провинции. И такие объекты исследования имеют конкретную точку на карте (зачастую сами авторы в качестве иллюстрации приводят карту с меткой конкретного места действия их исследования). Границы категории «регион», как правило, предзаданы кем-то извне: чаще всего государственным устройством и/или нормативно-правовой базой. Для других исследователей (Миллер, Ремнёв) такие регионы не противопоставляются столице, а рассматриваются как что-то обособленное и самобытное и интересны сами по себе, достойны изучения как отдельный феномен. Если в этом случае посмотреть на карту, то такой регион уже не просто точка, как в первом случае, а некая «площадь», похожая на геометрическую фигуру с заметными границами.
Эти два подхода объединяет тот факт, что регионы – реальные места, топосы, которые можно посетить и увидеть. Специфика исторических исследований – изучение регионов с точки зрения их ландшафта, административной и политической структуры. В то же время «соседи по науке» ‒ например, филологи ‒ анализируют регион как что-то конструируемое и воображаемое [ Абашев , 2000]. Обнаружить его в действительности не представляется возможным. Регион остается на уровне образов, зачастую живущих лишь в воображении определенной категории лиц (например, интеллигенции) [ Parts , 2016, р. 202].
Любопытным кажется тот факт, что при первом подходе (анализ региона как национальной окраины) сохраняется ведущая роль бинарной позиции «центр (он же столица) ‒ регионы» при дизайне исследования. Это видно даже в названии рассмотренного выше сборника «Центр и регионы: экономическая политика правительства на окраинах Российской империи (1894‒1917)».
В то время как при втором подходе (где при использовании категории «регион» акцент ставится на провинциальность) авторы пробуют преодолеть идею региона как провинции, заявив о том, что здесь тоже есть столичность. В этом направлении появляются новые способы описания феномена региона (например, «периферийная столица») [ Бугров , Емельянов , 2023].
Исследовательские вопросы, ответы на которые пробуют найти авторы, обращаясь к региону (здесь подход не важен), распадаются на два больших круга (перспективы). Первый объединяет в себе вопросы, позволяющие составить представление о столице (центре). Региональный материал здесь значим потому, что позволяет что-то рассказать о центре (парадигма «центр ‒ периферия» способствует пониманию того, как работала управленческая схема центра на местах). Центр оказывается в зависимом положении от регионов, так как только их изучение может показать, например, успешен ли был центр в своих действиях по отношению к регионам. Второй блок вопросов обращен внутрь региона. Задача исследований – показать, что в регионах есть явления, контексты и феномены, отличные от столиц, характерные только для конкретного места. Здесь регион выступает в качестве автономного пространства, и его следует понимать без связи с центром.
Несмотря на достаточно обширные и длительные дискуссии вокруг концепта «регион», эта категория продолжает широко использоваться без критической рефлексии. Нам видится, что подход к региону каждый исследователь должен определять самостоятельно, в зависимости от поставленных задач и ракурса исследования.
Не стоит также забывать, что регион обладает не только особенностями, но и типичными чертами. Однако в чем именно они заключаются? Можем ли мы увидеть что-то всегда характерное для региона: территория «вне столицы»; разные виды зависимости от столицы (центра); наличие горизонтальных связей между регионами? В дальнейшем на эти вопросы мы предлагаем обратить бóльшее внимание, чем это есть сейчас в современной историографии.
Список литературы Местное: регион и провинция в историографии исто-рии России
- Абашев В.В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе XX века. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2000. 404 с. ISBN: 5-8241-0234-1. EDN: QIRNEL.
- Ахапкина Я.Э. Провинция, периферия – проблема номинации // Провинция как реальность и объект осмысления. Тверь: Изд-во Твер. ун-та, 2001. С. 6–12.
- Белоусов А.Ф. Русская провинция: миф – текст – реальность. СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2000. 452 с. ISBN: 5-9210-0017-5. EDN: SQJNRB.
- Болтунова Е.М. Региональная история России. Исследовательское поле и архивная практика [1990-е – начало 2020-х годов] // Новое литературное обозрение. 2022. № 6 (178). С. 235‒250. DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_235.
- Бугров К.Д., Емельянов К.Н. «Периферийная столица» или общесоюзный центр? Векторы куль-турного развития Свердловска в 1940–1980-х годах // Вестник Перм. ун-та. История. 2023. № 3 (62). С. 186–201. DOI: 10.17072/2219-3111-2023-3-186-200. EDN: BTHONX.
- Глаголева О. Провинция как центр: формирование локальной идентичности по материалам уча-стия провинциального дворянства в кампании по созыву Уложенной комиссии 1767‒1774 годов // Регионы Российской империи. Идентичность, репрезентация, [на]значение. М., 2021. С. 76‒93.
- Глаголева О.Е., Ширле И. Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII века. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 456 с.
- Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 280 с.
- Зайонц Л.О. Провинция как термин // Русская провинция: миф – текст – реальность. СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2000. С. 12–20.
- Камерон С. Голодная степь: голод, насилие и создание советского Казахстана. М.: НЛО, 2020. 324 с.
- Лейбович О.Л. В городе М. Очерки социальной повседневности советской провинции в 40–50-х гг. М.: РОССПЭН, 2008. 295 с.
- Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. Терминологические проблемы изучения локуса // Региональная история, локальная история, историческое краеведение в предметных полях современного исторического знания. Ижевск: Изд-во Удмурт. гос. ун-та, 2012. С. 3–10.
- Миллер А.И., Долбилов М.Д. Западные окраины Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 608 с. DOI: 10.1353/imp.2006.0118.
- Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 248 с. ISBN: 5-86793-435-7. EDN: QPCIZD.
- Минаков A.С. Губернаторский корпус и центральная власть: проблема взаимоотношений (по материалам губерний Черноземного центра второй половины XIX ‒ начала XX вв.): дис. … д-ра ист. наук. Орел, 2011. EDN: QFLGOR.
- Нарский И.В. Жизнь в катастрофе: будни населения Урала в 1917–1922 гг. М.: РОССПЭН, 2001. 613 с. ISBN: 5-8243-0280-4. EDN: MHJRPM.
- Пикеринг Антонова К. Господа Чихачёвы. Мир поместного дворянства в николаевской России. М.: Новое литературное обозрение, 2013. 424 с.
- Правилова Е.А. Финансы империи. Деньги и власть в политике России на национальных окраи-нах. 1901–1917. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 456 с.
- Пыпин А.Н. История русской этнографии. СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1890. 488 с.
- Регионы Российской империи. Идентичность, репрезентация (на)значение / под ред. Е. Болтуновой и В. Сандерленда. М.: НЛО, 2021. 304 с.
- Региональные столицы России – точки опоры и роста: матер. Всерос. науч. конф. с междунар. участием, Екатеринбург – Пермь, 20–22 сентября 2023 г. / отв. ред. Н. В. Суржикова. Екатерин-бург, 2023. 496 с.
- Региональная история, локальная история, историческое краеведение в предметных полях современного исторического знания / под ред. Е.А. Загребина, О.М. Мельникова. Ижевск, 2012. 622 с.
- Репина Л.П. История регионов, или «Территория историка» после пространственного поворота // Диалог со временем. 2019. № 69. С. 5‒16. DOI: 10.21267/AQUILO.2020.69.46413. EDN: PJHQFW.
- Ремнёв А.В. Региональный нарратив в новой имперской истории // Вестник Омск. ун-та. 2004. № 4. С. 6–13. EDN: TMOSKX.
- Севастьянова А.А. История и историки в провинции и столицах XVIII‒XX вв. М.: Квадрига, 2020. 424 с. ISBN: 978-5-91791-353-7. EDN: JBIVOF.
- Севастьянова А.А. Жизнь в центре Рая: советский райцентр 50–60-х годов. М.: Древлехранили-ще, 2008. 295 с.
- Сибирь в составе Российской империи / под ред. Л.М. Дамешека, А.В. Ремнева. М.: Новое литературное обозрение, 2007. 368 с.
- Сталюнас Д. Польша или Русь. Литва в составе Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2022. 384 с.
- Хок С.Л. Крепостное право и социальный контроль в России: Петровское, село Тамбовской гу-бернии. М.: Прогресс-Академия, 1993. 256 с.
- Шаблей П., Сартори П. Эксперименты империи: адат, шариат и производство знаний в Казах-ской степи. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 280 с.
- Хлевнюк О., Горлицкий Й. Секретари. Региональные сети в СССР от Сталина до Брежнева. М.: НЛО, 2024. 432 с.
- Центр и регионы. Экономическая политика правительства на окраинах Российской империи 1894–1917 годов / отв. ред. М.В. Ходяков. СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2021. 660 с.
- Clowes E., Erbslöh G., Kokobobo A. Russia's Regional Identities: The Power of the Provinces. London, New York: Routledge, 2018. 324 p. DOI: 10.4324/9781315513331. EDN: XXKOZN.
- Evtuhov C. Portrait of a Russian Province: Economy, Society and Civilization in Nineteenth-Century Nizhnii Novgorod. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2011. 358 p. DOI: 10.2307/j.ctt5hjpk4.
- Henze Ch. Disease, Health Care and Government in Late Imperial Russia. London: Routledge, 2010. 242 p. DOI: 10.4324/9780203833971.
- Imperium Inter Pares: роль трансферов в Российской империи [1700–1917] / eds. by M. Aust, R. Vulpius, A. Miller. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 392 с.
- McDonald T. Face to the Village: The Riazan Countryside Under Soviet Rule, 1921‒1930. Toronto: University of Toronto Press, 2011. 422 p.
- Parts L. The Russian Provinces as a Cultural Myth // Studies in Russian and Soviet Cinema. 2016. Vol. 10, no. 3. P. 200–205. DOI: 10.1080/17503132.2016.1218624.
- Sahadeo J. Voices from the Soviet Edge: Southern Migrants in Leningrad and Moscow. Ithaca: Cornell University Press, 2019. 273 p. DOI: 10.7591/9781501738210.
- Smith-Peter S. Bringing the Provinces into Focus: Subnational Spaces in the Recent Historiography of Russia // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2011. Vol. 12, no. 4. P. 835–848. DOI: 10.1353/kri.2011.0052. EDN: XZXKRS.
- Smith-Peter S. How to Write a Region: Local and Regional Historiography // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2004. Vol. 5, no. 3. P. 527–542. DOI: 10.1353/kri.2004.0046.