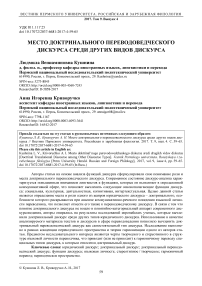Место доктринального переводоведческого дискурса среди других видов дискурса
Автор: Кушнина Людмила Вениаминовна, Криворучко Анна Игоревна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 4 т.9, 2017 года.
Бесплатный доступ
Авторы статьи на основе анализа функций дискурса сформулировали свое понимание роли и места доктринального переводоведческого дискурса. Современное состояние дискурс-анализа характеризуется повышенным вниманием лингвистов к функциям, которые он выполняет в определенной коммуникативной сфере, что позволяет вычленить следующие основополагающие функции дискурса: социальная, культурная, деятельностная, когнитивная, интертекстуальная. Целью данной статьи является определение места и роли одного из жанров юридического дискурса - доктринального, особенности которого раскрываются при анализе коммуникативно-речевого поведения языковой личности переводчика, что позволяет отнести его также к переводоведческому дискурсу. В связи с тем что понятие доктринального дискурса не вошло в понятийно-категориальный аппарат современного дискурсоведения, авторы опирались на результаты исследований европейских ученых, которые вычленили доктринальный дискурс среди других типов юридического дискурса. Использование в качестве анализируемого материала текстов и дискурсов в сфере переводоведения позволило вычленить доктринальный переводоведческий дискурс как самостоятельный тип дискурса. Исследование выполнено в рамках концепции переводческого пространства и теории гармонизации одного из авторов статьи. Предметом исследовательского интереса являются черты творческого и стереотипного в структуре языковой личности переводчика, что приводит (или не приводит) к гармоничному переводу специальных типов дискурса, к которым относится доктринальный дискурс.
Юридический дискурс, доктринальный дискурс, доктринальный переводо- ведческий дискурс, функции дискурса, языковая личность, стереотипное / творческое, гармоничный перевод, переводческое пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/14729542
IDR: 14729542 | УДК: 811.111'25 | DOI: 10.17072/2037-6681-2017-4-59-65
Текст научной статьи Место доктринального переводоведческого дискурса среди других видов дискурса
Дискурс как одно из ключевых понятий современной лингвистики открыт к изучению. Несмотря на многочисленные исследования в области дискурса, предпринятые как в отечественном, так и в зарубежном языкознании, ученые активно продолжают свои разыскания в данном направлении, что обусловлено, среди прочих факторов, появлением его новых разновидностей, в частности, доктринального дискурса [Peshkov 2012].
Начнем с того, что само понятие доктринального дискурса пока не вошло в понятийнокатегориальный аппарат отечественного дискур-соведения. Вместе с тем наше обращение к изучению различных аспектов юридического дискурса, а также специального дискурса в сфере юрислингвистики, обозначенного как юрислинг-вистический дискурс, привело нас к идее подробного изучения доктринального дискурса, рассматриваемого франкоязычными учеными в системе юридического дискурса.
Исследовательской задачей данной статьи является выявление места и роли доктринального дискурса среди других видов дискурса, а также его описание на материале переводных текстов в данной сфере. Решение поставленной задачи становится возможным, на наш взгляд, в результате анализа функций дискурса.
Обратимся к трудам классиков анализа дискурса. По мнению Т. ван Дейка, одного из основателей теории дискурса, «…дискурс является лишь одной из многих социальных практик, которые необходимо осмыслить» [Дейк 2013: 31]. Мы констатируем, что содержание дискурса детерминировано социальными взаимодействиями, в частности, речь идет о способности субъектов социальных отношений наблюдать, переживать и интерпретировать социальные структуры: «Именно эта (субъективная) репрезентация, эти ментальные модели специфичных событий, это знание, эти оценки и идеологии в конечном итоге влияют на дискурсы и другие социальные практики» [там же: 34]. Можно сказать, что в данном случае ученый акцентирует внимание на социальной функции дискурса. Компонентами социального аспекта дискурса он считает также историю и культуру: «… Представители различных культур могут понимать и использовать эти дискурсы по-разному в зависимости от разделяемого в их культуре знания и оценок» [там же: 35]. Исследователь подчеркивает, что в условиях возрастающей глобализации дискурсивные жанры становятся универсальными, что не исключает зависимости дискурсов от культуры. Как видим, дискурс выполняет культурную функцию , т. е. необходимо учитывать культурный контекст, в который включены участники межкультурного взаимодействия.
Подытоживая представления Т. ван Дейка о природе дискурса, дадим его определение: «В этой работе под «дискурсом» мы понимаем только специфичное коммуникативное событие в общем и письменную или устную форму взаимодействия или использования языка в частности. Иногда понятия «дискурс» используется в родовом смысле, обозначая тип дискурса, совокупность дискурсов или класс дискурсивных жанров, например, когда мы говорим о «медицинском дискурсе», «политическом дискурсе» или же «расистском дискурсе» [там же: 131].
Исследования в области функциональной стилистики, предпринятые в научной школе проф. М. Н. Кожиной, открывают новые грани в трактовке дискурса. По утверждению Н. В. Данилевской, теория дискурса в ее современном освещении, особенно в трудах зарубежных исследователей, близка функционально-стилистической концепции текста, представленной учеными пермской научной школы стилистики. В основе этих научных направлений лежат такие области, как предмет исследования – речь и ее разновидности, общие параметральные признаки: динамизм в процессе использования языка, его детерминация экстралингвистическими факторами, системность, историзм, речеведческий подход, трактовка текста как результата речевой / дискурсивной деятельности и как материала исследования. Автор напоминает дефиницию М. Н. Кожиной, согласно которой дискурс – это «речь, разновидность речи как процесс использования языка в когнитивно-речевой деятельности, фиксирующийся в текстах, опирающийся на интрадискурсивность, обусловленный экстра-лингвистическими факторами (идеологическими, социокультурными, историческими) и представляющий определенную общность практики людей в качестве обобщенного субъекта высказывания (особый «ментальный мир» с его «духом времени»)» (цит. по: [Данилевская 2005: 179]).
В своих работах М. Н. Кожина неоднократно подчеркивала, что «динамика употребления языка человеком – главнейший, существенный признак речи, обусловливающий все другие ее признаки и свойства, круг категорий и объектов исследования» [Стилистический энциклопедический словарь… 2003: 334]. Эта идея получила наибольшее развитие в связи с развитием теории дискурса в ее современном освещении.
В работах Н. В. Данилевской дискурс соотносится не только с текстом, но и с интердискурсом, интегрирующим в себе совокупность дискурсов в рамках эвристической деятельности. Иными словами, интердискурсивность предопределяет особую организацию смысла высказывания, формирование и выражение автором новой идеи и организацию ментальной активности предполагаемого читателя.
Все сказанное позволяет выявить такие функции дискурса, как деятельностная , обусловливающая рече- и текстопроизводство, когнитивная , определяемая типом мышления и когнитивными прототипами, но, самое главное, детерминированная экстралингвистическими факторами .
В этой же парадигме разворачиваются рассуждения В. Е. Чернявской о природе дискурса, отмечающей, что «содержание (тема) дискурса раскрывается не одним отдельным текстом, но интертекстуально, в комплексном взаимодействии многих отдельных текстов» [Чернявская 2014: 112].
Следовательно, можно говорить об интертекстуальной функции дискурса, обеспечивающей тематическое единство входящих в него текстов и их функционирование в пределах определенной коммуникативной сферы. При этом автор подчеркивает, что дискурс продуцируется коллективным субъектом. Именно такой подход позволяет ученым вычленить относительно самостоятельные типы, виды, жанры дискурса.
Для проводимого нами исследования важны положения о дискурсивной формации – условных границах дискурса, изложенных в работе В. Е. Чернявской. Автор обозначает следующие типы границ: ментальные, методологические, содержательные, лингвистические, создающие своего рода «рамочное пространство» дискурса, которое характеризует коллективное речевое действие данного языкового сообщества.
Как видим, понятие дискурса может быть выражено через функции, которые он выполняет в определенной коммуникативной сфере. В дальнейшем мы подробнее рассмотрим функции доктринального дискурса. Предметом нашего исследовательского интереса является юридический дискурс и его разновидности, что наиболее полно представлено в работе Киры Пешков, франкоязычного ученого русского происхождения, озаглавленной “Le discours juridique en russe et en français: une approche typologique” [Peshkov 2012].
Кроме того, нас интересует переводной юридический дискурс, а именно тексты юридической тематики на французском языке и их переводы на русский. По нашим наблюдениям, среди данного типа текстов особое место занимают тексты, посвященные проблемам юридического перевода, интерес к которому постоянно растет, что обусловлено социально-экономическими причинами и что позволило нам вычленить самостоятельный доктринальный переводоведче-ский дискурс.
К. Пешков исходит из положения о том, что юридический дискурс является одновременно и лингвистическим, и юридическом актом, т. е. речь идет о междисциплинарном феномене, где имеет место взаимодействие дисциплин, личностей, культур [Peshkov 2012].
Наибольший интерес в данной работе представляет для нас описание жанров юридического дискурса. Составленная автором классификация показывает¸ что типы юридического дискурса различаются по следующим параметрам: автор дискурса, получатель дискурса, цель дискурса, уровень специализации. При этом в основу трактовки дискурса положено его понимание как продукта множественных дискурсивных практик в социальной жизни, а источником изучения дискурса являются различные области социальной жизни. В центре внимания исследователя – транслингвистические дискурсивные практики языка права. В основу предложенной К. Пешков классификации положен коммуникативно-функциональный подход, что позволило выделить четыре жанра юридического дискурса (discours juridique): 1) нормативный дискурс (discours normatif), 2) судебный дискурс (discours juridu-ictionnel), 3) арбитражный дискурс (discours des traités), 4) доктринальный дискурс (discours doctrinal). Нормативный дискурс покрывает законодательный и административный дискурсы. Судебный дискурс относится к государственным структурам, судебным инстанциям. Арбитражный дискурс касается также государственных органов, связанных с международным правом, с заключением договоров и пр. Доктринальный дискурс соотносится со всеми, кто создает законы и обучает законотворчеству. Как подчеркивает автор, он сообразуется с деятельностью юристов-ученых, что находит отражение в монографиях и научных статьях юридической тематики. По нашим наблюдениям, к доктринальному дискурсу можно отнести как дискурс преподавателей права, так и дискурс преподавателей юридического перевода, который в настоящее время становится самостоятельным предметом изучения и который будет рассмотрен ниже. При этом, как считают представители кемеровской школы юри-слингвистики, рядовый носитель языка (в нашем случае – переводчик) «вовсе не факультативный читатель текста. Он, основной участник правовой коммуникации, является в своей основе диалогом народа и власти» [Голев 2015: 138].
Возвращаясь к работе К. Пешков, приведем следующее определение доктринального текста: «Le discours doctrinal est l’oeuvre des “doctes”, de ceux qui enseignent ou écrivent sur le droit <…> Elle est le produit de la “caste” des juristes – ni une origine officielle – l’autorité publique ne lui confère pas, en principe, de statut particulier dans la création de la règle de droit. Le rôle de la doctrine est de déterminer la règle juste. Mais la liberté d’opinion des doctes entraîne une grande diversité des règles proposées» [Peshkov 2012: 26]. – (Доктринальный дискурс – это речевое произведение, созданное компетентными специалистами в области права, т. е. теми, кто пишет правовые документы или обучает правопроизводству. Это продукт «касты» юристов, которых государственные структуры не наделяют полномочиями правотворчества и роль которых заключается в формулировке справедливых правил. Но свобода мнений среди этих специалистов влечет за собой большое разнообразие предлагаемых правил) (перевод наш. – Л. К.). В рамках проводимого нами исследования важно подчеркнуть сферу функционирования доктринального дискурса. По мнению К. Пешков, «… le discours doctrinal est abordé dans le cadre d’articles scientifiques, de manuels de droit et de monographies traitant de sujets juridiques» [Peshkov 2012: 45]. – (…докт-ринальный дискурс используется при написании научных статей, учебников и учебных пособий в области права, монографий, посвященных субъектам юридического дискурса) (перевод наш. – Л. К.). Данная сфера была использована нами для анализа доктринального перево-доведческого дискурса.
Таким образом, разновидностью доктринального дискурса, раскрывающего особенности коммуникативно-речевого поведения определенного типа языковой личности, является доктринальный переводоведческий дискурс (ДПД). В качестве авторов ДПД выступают профессиональные юристы, ученые в сфере юриспруденции, преподаватели права, переводчики юридических текстов и исследователи в сфере специального юридического перевода. В качестве реципиентов выступают ученые-юристы, студенты, преподаватели, частные лица, интересующиеся проблемами права, переводчики юридических текстов. Именно переводчики юридических текстов послужили для нас источником теоретических размышлений и наблюдений.
Мы предположили, что в роли переводчиков могут выступать как профессиональные юристы, так и профессиональные переводчики, которые не являются специалистами в юридической сфере. Иными словами, мы анализируем дискурсивную деятельность переводчиков-юристов и переводчиков-лингвистов. Если рассматривать эти категории деятельности с позиций рамочного пространства дискурса, о котором речь шла выше, можно предположить, что деятельность переводчиков-юристов осуществляется в рамках методологических и содержательных границ, а деятельность переводчиков-лингвистов – в рамках ментальных и лингвистических границ.
Таким образом, сопоставив основные положения анализа дискурса в целом и юридического дискурса в частности, представленные отечественными и зарубежными учеными, мы вычленили самостоятельный тип дискурса – доктринальный переводоведческий дискурс , который является разновидностью доктринального дискурса. В свою очередь, доктринальный дискурс выступает родовым понятием по отношению к данному типу, но видовым понятием по отношению к юридическому дискурсу. Что касается юридического дискурса, наряду со многими другими, он является разновидностью специального дискурса, обеспечивающего профессиональную коммуникацию в определенной сфере общения. Доктринальный переводоведческий дискурс в дискурсивной системе коммуникации может быть представлен следующим образом: юридический дискурс: нормативный дискурс – судебный дискурс – арбитражный дискурс – доктринальный дискурс.
Исследование ДПД мы проводим в рамках концепции переводческого пространства Л. В. Куш-ниной (2016) и концепции стереотипного и творческого М. П. Котюровой (2005, 2007). Согласно концепции переводческого пространства перевод текста / дискурса протекает как процесс транспонирования гетерогенных эксплицитно-имплицитных смыслов из одного языка в другой, из одной культуры в другую. Этот процесс является синергетическим по своей природе, т. к. смысл текста перевода является результатом синергии смыслов всех полей переводческого пространства [Кушнина 2016]. Синергетический эффект означает, что в процессе перевода произошло приращение новых смыслов, приемлемых в принимающей культуре. В результате смыслы текстов оригинала и перевода соразмерны друг другу, т. е. гармоничны.
Исследование доктринального переводовед-ческого дискурса мы проводим в свете проблемы языковой личности переводчика, обладающей чертами творческого и стереотипного. Мы предположили, что в зависимости от соотношения творческих и стереотипных характеристик в структуре языковой личности переводчика происходит порождение качественного, гармоничного перевода, что приводит к успешному взаимодействию коммуникантов, или имеет место переводческая дисгармония как проявление ошибок, неудач, погрешностей, что приводит к коммуникативному сбою.
Как поясняет М. П. Котюрова, обращение к проблеме творческого и стереотипного в тексте позволяет реализовать «панорамный подход к тексту» [Котюрова 2005], иными словами, выявить противоположные и, вместе с тем, взаимо- обусловленные свойства процессов текстопо-рождения и текстовосприятия. Единство стереотипного и творческого, лингвистического и экстралингвистического, текстового и дискурсивного характеризует уровень развития лингвистического знания, что расширяет наши возможности при изучении как моноязычного, так и двуязычного языкового материала.
М. П. Котюрова, а также авторы многочисленных статей ежегодного научного сборника «Стереотипность и творчество в тексте» убедительно доказали, что стереотипное и творческое характеризуют любой текст, при этом уровень их взаимодействия определяет качество текста.
Перейдем к анализу. В качестве материала для анализа мы использовали фрагменты текста Ф. Оста «Dire le droit, faire justice» [Ost 2007] в оригинале и переводе. В качестве переводчиков выступили студенты старших курсов гуманитарного факультета ПНИПУ, обучающиеся по специальности «лингвист-переводчик». Текстовые категории стереотипного и творческого мы проанализировали с позиций современной метафо-рологии, согласно которой метафора является одним из когнитивных механизмов языка. Мы предположили, что динамика порождения метафоры в тексте перевода может осуществляться по двум направлениям: реметафоризации и деметафориза-ции, что, соответственно, отражает проявление творческого и стереотипного компонентов в речевой деятельности переводчика. В процессе реме-тафоризации переводчику удается воссоздать метафору оригинала, в процессе деметафоризации метафорическое выражение исчезает.
Приведем фрагмент текста оригинала.
Et comme le traducteur encore, le juge fait l’expérience d’une nécessaire et impossible fidélité – une fidélité paradoxale donc, qui tient moins dans la stricte conformité (à quoi, du reste : au mot, au sens, à l’intention de l’auteur, aux attentes du lecteur, aux particularités du contexte ?) que dans une créativité responsable, “responsive” disent les auteurs anglo-saxons, répondante des virtualités des textes et en dialogue avec les interpellations des justiciables [Ost 2007: XVI].
Текст перевода № 1
…И еще, так же как и переводчик, судья сталкивается с необходимым и тяжелым разочарованием – парадоксальным разочарованием, которое связано не столько с точным соответствием (соответствием чему, в конце концов: слову, смыслу, авторскому намерению, ожиданию читателя, особенностям контекста?), а с процессом ответственной творческой способности, «чуткой», по выражению англосаксонских авторов, отвечающей возможностям текста и в соответствии с запросами подсудных лиц.
Текст перевода № 2
…И подобно переводчику, судья стремится к верности — необходимой и невозможной, то есть парадоксальной, — верности, которая кроется не столько в адекватности (чему, кстати: слову, смыслу, намерению автора, ожиданиям читателя, контексту?), сколько в ответственном творчестве. Творчестве, как пишут англичане, responsive, то есть чутком к скрытым смыслам текста и ведущем постоянный допрос обвиняемого.
Как видим, в оригинале автор прибегает к использованию метафоры « virtualités des textes ». Первый переводчик пишет: « возможности текста », второй переводчик формулирует: « скрытые смыслы текста ». Следовательно, в первом случае имеет место процесс деметафоризации, в то время как во втором случае мы констатируем реметафоризацию. Согласно концепции переводческого пространства второй вариант можно признать гармоничным, что отражает творческий характер языковой личности переводчика.
Таким образом, на частном примере мы показали, что в ситуации доктринального переводо-ведческого дискурса находят выражение стереотипные и творческие черты языковой личности переводчика. Эти черты обладают дискурсообразующими свойствами, влияя тем самым на содержание дискурса, его качество, его роль в общей системе профессиональной деятельности, включенной в единое коммуникативное пространство.
Professor in the Department of Foreign Languages, Linguistics and Translation
Perm National Research Polytechnic University
ResearcherID: D-5858-2017
Anna I. Krivoruchko
Assistant in the Department of Foreign Languages, Linguistics and Translation
Perm National Research Polytechnic University
Список литературы Место доктринального переводоведческого дискурса среди других видов дискурса
- Алексеева И. С. Текст и перевод. Вопросы теории. М.: Междунар. отн., 2008. 184 с
- Белозерова Н. Н. Дискурсивная избыточность и перформативность современного медийного пространства//Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. 2015. № 1(1), т. 1. С. 7-20
- Голев Н. Д. Юридическая терминология в контексте доктринального толкования//Сибирский филологический журнал. 2015. № 4. С. 138-148
- Данилевская Н. В. Научный текст -дискурс -интердискурс: функционально-стилистический взгляд//Стереотипность и творчество в тексте: межвуз. сб. науч. тр. Пермь, 2005. Вып. 8. С. 175-184
- Дейк T. А. ван. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации/пер. с англ. М.: ЛИБРОКОМ, 2013. 344 с
- Котюрова М. П. Когнитивно-функционально-стилистический подход к культуре письменной речи//Стереотипность и творчество в тексте: межвуз. сб. науч. тр. Пермь, 2005. Вып. 9. С. 120-127
- Котюрова М. П., Баженова Е. А. Культура научной речи: текст и его редактирование. Пермь, 2007. 282 с
- Кушнина Л. В. Культурная парадигма перевода//Стереотипность и творчество в тексте: межвуз. сб. науч. тр. Пермь, 2016. Вып. 20. С. 130-139
- Стилистический энциклопедический словарь русского языка/под ред. М. Н. Кожиной. М.: Флинта: Наука, 2003. 696 с
- Чернявская В. Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса: учеб. пособие. М.: Флинта, 2014. 200 с
- Ost F. Obiter dicta/Dire le droit, faire justice. Collection: Penser le droit. 2-e édition//F. Ost. Dire le droit, faire justice. Bruxelles: Bruylant, 2007. Р. IX-1. URL: http://fr.bruylant.larciergroup.com/resource/extra/9782802738497/OBITER%20DICTA% 20DIRDROMB.pdf (дата обращения: 02.05.2017)
- Peshkov K. Le discours juridique en russe et en français: une approche typologique. Linguistique. Aix-Marseille Université, 2012. Français. URL: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00997016/file/These_PESHKOV_Kira.pdf (дата обращения: 03.04.2017)