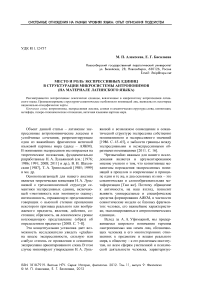Место и роль экспрессивных единиц в структурации микросистемы антропонимов (на материале латинского языка)
Автор: Алексеева Маргарита Петровна, Басалаева Елена Геннадьевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Системные отношения на разных уровнях языка: опыт описания подсистем
Статья в выпуске: 9 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются экспрессивные лексические единицы, вовлеченные в микросистему антропонимов латинского языка. Проанализированы структурно-семантические особенности номинаций лиц, выявлены их некоторые национально-специфические черты.
Антропонимы, экспрессивная лексика, семная и семантическая структура слова, коннотация, метафора, гиперо-гипонимические отношения, античная языковая картина мира
Короткий адрес: https://sciup.org/14737937
IDR: 14737937 | УДК: 811.124''37
Текст научной статьи Место и роль экспрессивных единиц в структурации микросистемы антропонимов (на материале латинского языка)
Объект данной статьи – латинские экспрессивные антропонимические лексемы и устойчивые сочетания, репрезентирующие один из важнейших фрагментов античной языковой картины мира (далее – АЯКМ). В понимании экспрессивов мы опираемся на теоретические положения, фундаментально разработанные Н. А. Лукьяновой (см.: [1976; 1986; 1991; 2008; 2011] и др.), В. И. Шаховским [1987], Т. А. Трипольской [1985; 1999] и мн. др.
Основополагающей для нашего анализа является теоретическая концепция Н. А. Лукьяновой о трехкомпонентной структуре семантики экспрессивных единиц, включающей «эмотивность или эмотивную оценку; интенсивность, отражающую представление говорящих о высокой степени проявления некоторого признака реального или воображаемого предмета, явления, действия, состояния; образность, на лексическом уровне воплощающую представление (образ) об определенном предмете» [2008. С. 7–8].
Эта концептуальная установка дает возможность исследователю увидеть «gradus» на шкале экспрессивности, сильную или слабую степень ее проявления в семантике экспрессивно ориентированного слова. В этом случае импонируют утверждения Н. А. Лукь- яновой о возможном совмещении в семантической структуре экспрессива собственно номинативного и экспрессивного значений [1986. С. 45–65], о зыбкости границы между экспрессивными и неэкспрессивными образными номинациями [2011. С. 16].
Чрезвычайно важным для нашего исследования является и аргументированное мнение ученого о том, что когнитивные механизмы порождения экспрессивных номинаций в прошлом и современные в принципе одни и те же, и два основных из них – это семантическая и словообразовательная ме-тафоризация [Там же]. Поэтому обращение к античности, на наш взгляд, позволит выявить универсальные и специфические средства формирования АЯКМ, в частности семиотические модели ее базовых фрагментов: человек, его важнейшие характеристики, эксплицированные в антропонимических единицах.
Вслед за А. А. Уфимцевой, мы придерживаемся широкого понимания термина «антропонимы» как «имен лиц, обозначающих человека в его многосторонних отношениях к предметам и вещам реального мира, к обществу – к его различным институтам, ко всем сферам умственной и психической деятельности человека, характеризуе-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 9: Филология © М. П. Алексеева, Е. Г. Басалаева, 2012
мого со стороны физических, психических свойств, этических и нравственных норм» [1988. С. 126].
В языковой картине мира (включая и античную) каждая из сфер бытия человека, человеческой деятельности, сфер проявления отношений, его качеств и пр. представлена лексико-тематическими группами, внутри которых можно выделить семантические поля и микрополя. Согласно типологии полей Ч. Филлмора [1983], первичным и основным типом семантических отношений антропонимов являются гиперо-гипоними-ческие (родо-видовые и партонимические). Такая структурная организация антропонимов определяется прежде всего наличием в их семантике общих категориальных признаков конкретности, одушевленности, лица, исчисляемости, а также общего денотативно-сигнификативного типа их знакового значения. Это значение складывается из совокупности определенных конститутивных признаков, формирующих логико-дедуктивное понятие и лежащих в основе прямого номинативного значения слов данного класса. Например, невозможно представить себе человека без таких универсальных определяющих его характеристик, как пол, возраст и пр., входящих в качестве конститутивных семантических признаков в семный состав ЛЗ номинантов femina ‘женщина’, vir ‘мужчина’, senex ‘старик’, juvenis ‘юноша’, infans ‘ребенок’ и т. д.
По мнению А. А. Уфимцевой, именно лексемы, называющие данные природные характеристики человека, обладают большей степенью конкретности денотативного типа значения и свойственны любой языковой общности, только средства их выражения варьируются от языка к языку [Уфимцева, 1988. С. 127-128]. Но далее автор отмечает, что определенные звенья гиперо-гипонимической структуры антропонимов «являются типичными именами с относительным характером семантики, тяготеющими к разряду абстрактных, признаковых имен» [Там же. С. 128].
В связи с этим актуальным видится дифференцированное осмысление каждого звена гиперо-гипонимической структуры антропонимов с точки зрения вовлечения их в зону экспрессивности или в отдельный ее участок, «страт»: эмотивно-оценочность, интенсивность /чрезмерность/, образность.
Опираясь на материалы латинских лексикографических источников (см.: [Дворецкий, 1976]), мы провели примерную структурацию латинских антропонимов, проанализировали гиперо-гипонимические звенья с точки зрения экспрессивного потенциала единиц и механизмов их формирования, степени заряженности экспрессивностью номинантов человека.
Анализ показал, что самую высокую позицию на шкале экспрессивности занимают номинанты, характеризующие человека по наклонностям , интеллекту , личностным , морально-нравственным качествам , поведению в обществе и т. п. Экспрессивноэмоциональная установка уже заложена в семантике таких единиц, т. е. уже сама номинация может быть экспрессивной, эмоционально-оценочной. Как правило, в латинском языке антропонимы с высоким зарядом экспрессивности формируют лексико-семантические группы с преимущественно ядерным компонентом ‘плохой’, ‘не соответствующий нормам’. Рассмотрим более подробно антропонимы данного звена гиперо-гипонимической структурации.
В составе данной группы лексем нами выделены следующие подгруппы:
-
1) номинации лиц по характерным социальным чертам, социальным оценкам, социальному состоянию, действию, функции, по личным и общественным отношениям, связям.
К данной группе относятся экспрессивы, в ЛЗ которых, как правило, наблюдается своего рода «семное размножение», сопровождающееся совмещением двух се-мантико-характеризующих признаков -рационально-оценочного и эмоциональнооценочного. Примерами данной группы могут послужить лексические единицы с ядер-ными семами в ЛЗ ‘негодяй’, ‘мошенник’, ‘жулик’ и под. Ср.: furcifer ‘мошенник, негодяй, бездельник’; mastTgia ‘мошенник, негодяй’; mufrius ‘мошенник, шарлатан’; nebulo ‘бездельник, негодяй, мошенник’; subalapa ‘негодяй, мошенник’; scelio ‘злодей, нечестивец, негодяй’; verbero ‘заслуживающий палки, негодяй’ и пр. Большинство примеров данной группы содержат оценочный компонент в первичном, исходном значении. Менее частотны случаи метафорического, метонимического переосмысления единиц или сочетаний фразео-логизированного типа и вовлечение их в зону эмотивно-окрашенных экспрессивов. Ср.: carnifex ‘1) палач, 2) мучитель, изверг, негодяй’; gabalus ‘1) крест, виселица 2) висельник, негодяй’; convicium ‘1) громкое неодобрение, 2) позор (семьи), выродок, негодяй’; flagrantia ‘страсть, пламя, пыл’, flagitii flagrantia ‘отъявленный негодяй’ и пр. Таким образом, в данном ряду сема ‘негодяй’ становится поливалентной, аксиологически синкретичной: для человека античного мира в концептосфере «негодяй» сопряжены такие социально оцениваемые качества и действия человека, как мошенничество, нечестность, злодейство, позор семьи, жульничество, осквернение святыни, насилие, крайняя жестокость, подлость, безделье и пр.
-
2) лексемы, характеризующие лицо по интеллектуальному, интеллектуально-эмоциональному, психологическому свойству, качеству, по поведению.
Данная группа слов отличается лексическим многообразием и семантической плотностью. Можно выделить следующие наиболее частотные микрогруппы с ядерными семами:
-
• ‘глупый человек’: barcala ‘дурак, болван’; baceolus ‘дурак, болван, глупец’; gerro ‘ротозей, глупец’; demens ‘безумец, глупец’; fatua ‘придурковатая женщина, слабоумная, тж. шутиха’, baro ‘простофиля, простак или увалень’; cuculus ‘простофиля, глупец’; maccus ‘простофиля, дурачок’; morio ‘глупец, дурак или шут’; varo ‘простофиля, дурень’ и др. Как показывают примеры, сема ‘глупость’ практически всегда оказывается сопряженной с такими смыслами, как ‘простота’, ‘шутовство’, ‘безумие’ и пр.;
-
• ‘лживый человек’: fabulo ‘сплетник, лжец’; circumscriptor ‘обманщик, плут’; circumventor ‘обманщик’; deceptor ‘обманщик’; falsus ‘лгун, лжец, обманщик, лицемер’; praestigiator ‘фокусник, обманщик’ и пр.;
-
• ‘ленивый человек’: umbraticolus ‘пребывающий и тени, т. е. бездельник, лентяй; nebulo ‘бездельник, негодяй, мошенник’ и пр.;
-
• ‘болтливый человек’: balatro ‘балагур, болтун, крикун’; garritor ‘болтун’; lingulaca ‘болтун, болтушка’; locutor ‘болтун, краснобай’ и пр.;
-
• ‘обжора’: estrix ‘прожорливая женщина, обжора’; glutto ‘обжора’, gulo ‘лакомка, обжора, гурман’; gumia ‘обжора, лакомка’;
lurco ‘обжора, кутила, расточитель, мот’; mando ‘обжора, лакомка’; patinarius ‘обжо-ра’и пр.;
-
• ‘человек, пристрастный к пьянству’: potator ‘бражник, кутила, пьяница’; madulsa ‘пьяница, пьянчужка’, ebriosus ‘пьяница’; vinolentus ‘пьяница’ и пр.
-
• ‘распутный человек’: limax ‘ распутная женщина’, fornicarius ‘развратник’; lastaurus ‘распутник, развратник’; moechus ‘развратник, прелюбодей’; scortator ‘развратник, распутник’; scortum ‘развратник, развратница’; meretricula ‘убогая блудница, жалкая проститутка’; alicaria ‘жалкая продажная женщина (питающаяся одной полбой)’ и пр. В данной группе лексем наиболее явно представлена гендерная спецификация значений.
Как видим, многочисленность примеров антропонимов в разных группах обусловлена тем, что в латинском языке яркая мотивировка качества и степень спецификатора того или иного признака проявляются достаточно сильно благодаря прочным словообразовательным связям (достаточно большой процент слов имеет прозрачную внутреннюю форму).
-
3 ) слова, называющие человека по физическому, физиологическому, состоянию, свойству. Например, portentum ‘чудовище; урод; выродок’; monstrum ‘урод’; pulchellus ‘ ирон . красавчик, молодчик’; miracula ‘на диво безобразная женщина’; truo ‘пеликан, (о человеке) носач’ и пр.
Говоря об антропонимах-экспрессивах в целом, можно выделить следующие их семантические особенности:
-
а ) эмотивно-оценочная коннотация может быть свойственна слову в прямом значении, например: trivenefica ‘ бран . ведьма из ведьм’, cibicida ‘ шутл . дармоед’ и пр.;
-
б ) экспрессивная окраска формируется у вторичного ЛЗ в результате метафорометонимического переосмысления значения слова и вовлечения лексической единицы в зону антропонимов. В данном случае наиболее частотными являются следующие модели метафоро-метонимических трансформаций:
-
• наименования животных и птиц → человек: asinus ‘1) осел, 2) бран . глупый человек’; cuculus ‘1) кукушка, 2) простофиля, глупец, 3) лодырь, лентяй (о крестьянах, которые медлят с полевыми работами до кукования, до весеннего равноденствия)’;
sīmia ‘1) обезьяна, 2) глупый подражатель’; mūlus ‘1) мул, 2) дурак, осел’; ovis ‘1) овца, 2) баран, дурень’; vultur ‘1) коршун, 2) хищник, ненасытный человек’; natrix ‘1) водная змея, 2) змея, злой человек’; pullus ‘1) детеныш, молодое животное, p. milvinus – птенец коршуна, жадный человек’; pīca ‘1) сорока, 2) болтунья’; canis ‘1) собака, пес, 2) бесстыдник, подхалим или злюка’; musca ‘1) муха, 2) любопытный или назойливый человек’; culex ‘1) комар, мошка, 2) бран . назойливый (влюбленный) старикашка’; turturilla ‘горлинка (об изнеженном мужчине)’; līmāx ‘1) слизняк, улитка, 2) шутл . распутная женщина’; lupula ‘1) маленькая волчица, 2) бран . колдунья, ведьма’; feles ‘1) кошка; редко куница, хорек, 2) вор, похититель’ и др. Как видим, зооморфные метафоры эксплицируют национально-культурную специфику мировидения соответствующего народа, поскольку «…те знания о мире, которые лежат в основе метафор о животных, мало соотносятся с научными данными о реальном поведении животных» [Сандомирская, 1991. C. 127]. Цель таких метафор – приписать человеку некоторые признаки, которые всегда или почти всегда имеют оценочный смысл. С помощью метафорических номинаций своеобразному оцениванию в АЯКМ подвергались такие качества, свойства человека, как глупость, жадность, болтливость, подражательство, назойливость и пр.;
-
• предметный мир → человек: matella ‘1) ночной горшок, 2) старая развратница’; matula ‘1) горшок, 2) дурак, простофиля’; ligula ‘1) язычок, пластинка, 2) дурак’; crux ‘1) крест, 2) напасть, висельник, душегуб, разбойник’; harpago ‘1) крюк (стеноломный или абордажный), 2) бран . хищник, живодер’; vappa ‘1) испортившееся (плохое) вино, 2) негодный человек, бездельник’; maltha ‘1) мальта, род горючего минерального масла или ископаемой смолы, 2) избалованный человек, неженка’ и пр. Можно отметить, что семантические дериваты, образованные по модели предмет → человек, называют преимущественно духовные качества человека, особенности его характера и поведения, и в отличие от других языков в латыни гораздо в меньшей степени встречаются метафорические переносы, характеризующие человека по внешним данным (ср.: sēmicūpa ‘полбочки, шутл . пузан’);
-
• наименования частей тела → человек: auris ‘1) ухо, 2) образованный слушатель’; bucca ‘1) щека, 2) крикун, болтун, 3) приживальщик, лизоблюд’; corculum ‘1) сердечко, 2) умница, разумный’; maxilla ‘1) челюсть, 2) хлебные спекулянты’; cunnus ‘1) женский половой орган, 2) проститутка, блудница’ и пр.;
-
• наименования профессий человека → человек, обладающий определенными морально-психологическими признаками, качествами: īnstitor ‘1) мелкий торговец, разносчик, 2) выставляющий на показ, бахвал’; scholasticus ‘1) ритор, учитель красноречия, 2) буквоед, ученый дурак’; vēnditor ‘1) продавец, 2) предатель’; aestimātor ‘1) оценщик (зерна), 2) ценитель, человек с большим самомнением’; largītor ‘1) щедрый даритель, даятель, жертвователь, 2) дающий взятки, мздодатель’; scaenicus ‘1) актер , 2) презрит . притворщик, кривляка’; histrio ‘1) актер, 2) трагик, 3) хвастун, шарлатан’; fossor ‘1) землекоп, 2) рудокоп, 3) неученый человек, 4) развратник’ и др. Данная группа номинаций лица интересна тем, что переносные наименования (преимущественно негативно-оценочные) основаны на актуализации глубинных ассоциативных смыслов, заложенных в первичной семантике. Тем самым вторичное ЛЗ позволяет не только сделать вывод о порицаемых качествах, свойствах человека (например, глупость, притворство, нечестность, хвастовство и пр.), но и выявить те имплицитные (национально-специфические) признаки, которые были заложены в первичной семантике, но никак не выводились из словарной дефиниции. Это представляется чрезвычайно важным и ценным для описания АЯКМ;
-
• термины родства → человек: patruus 1) дядя по отцу, 2) строгий блюститель нравов; filiola ‘1) дочка, дочурка, 2) женственный, изнеженный человек, маменькин сынок’; nepōs ‘1) внук, 2) кутила, мот, расточитель’ и пр.;
-
• наименования растений → человек; filix ‘1) папоротник, 2) сорняк, негодный человек, ничтожество’; fungus ‘1) гриб, 2) дурень’; piper ‘перец; кипучая натура’; cucurbita ‘1) тыква, 2) бестолковый человек’ и пр.;
-
• наименования болезней → человек: carcinoma ‘1) раковая опухоль, рак, 2) бран . язва, отпетый негодяй’ и пр.;
-
• ментально-речевое действие → человек: nūgae ‘1) пустяки, вздор, шутки, 2) ветрогон, пустомеля, болтун, несерьезный человек’ и пр.;
в) эмоциональную окраску приобретают выражения фразеологизированного типа. Номинациями человека в данном случае выступают метафорически переосмысленные сочетания слов. Например, ulmorum Acheruns ‘могила вязовых прутьев, т. е. негодяй, о которого было обломано немало палок’; barathrum macelli ‘обжора’ (букв. гибель продовольствия); fēnum esse ( =ĕdĕre ) ‘быть глупцом’ (букв. питаться сеном); homo non nauci ‘никчемный человек, бездельник’ (букв. человек без скорлупы); virgarum lascivia ‘вечно избиваемый человек’ (букв. веселье розг); gymnasium flagri ‘человек, которого постоянно бьют’ (букв. школа плети); scopae solutae ‘растрепанная метелка (о нелепом, никчемном человеке)’; homo emunctus ‘тонкий человек, умница’ (букв. высморкавшийся человек). В данных примерах ведущей моделью семантического переосмысления оказывается артефактная метафора, ключевые же смыслы, эксплицируемые подобными выражениями, – это глупый, негодный человек, поведение которого социально осуждается.
Таким образом, эти и многие другие экспрессивные лексические единицы не просто характеризуют человека, но и оценивают его с точки зрения определенной социальной нормы. Эту норму образуют положительные наименования людей, поэтому таких слов гораздо меньше (норма и не должна быть разветвленной и дифференцированной, это точка отсчета). Слов же с негативной оценочностью намного больше, семантика их сложнее, отношения и связи между ними богаче. Наиболее многочисленными, детально разработанными в латинском словаре являются наименования ленивых, глупых, болтливых, развратных, лживых, негодных людей. Львиную долю качественных наименований лица составляют характеристики его душевных качеств, характера и поведения, что свидетельствует о высоких морально-нравственных требованиях, предъявляемых к человеку в античном социуме.
POSITION AND ROLE OF EXPRESSIVE UNITS IN STRUCTURING A MICROSYSTEM OF ANTHROPONYMS (ON THE MATERIAL OF LATIN)