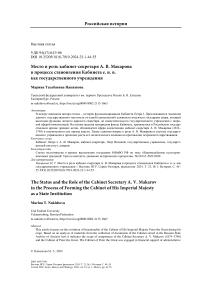Место и роль кабинет-секретаря А. В. Макарова в процессе становления кабинета Е. И. В. как государственного учреждения
Автор: Накишова М.Т.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
В центре внимания автора статьи - история функционирования Кабинета Петра I. Прослеживается эволюция данного государственного института от одной-единственной должности подьячего государева двора, который выполнял функции личного царского секретаря, до самостоятельного государственного учреждения с широкой сферой компетенций. На основе анализа материалов фонда Кабинета, хранящегося в Российском государственном архиве древних актов, обозначается сфера компетенции кабинет-секретаря А. В. Макарова (1674-1740) и подчиненного ему органа власти. Также ставится вопрос о роли А. В. Макарова в системе государственного управления и причинах роста его политического влияния на протяжении петровского царствования.
Кабинет петра i, а. в. макаров, кабинет-секретарь, петр великий, государственное управление, государственный институт, доверие
Короткий адрес: https://sciup.org/147243534
IDR: 147243534 | УДК: 94(47).043+06 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-1-44-55
Текст научной статьи Место и роль кабинет-секретаря А. В. Макарова в процессе становления кабинета Е. И. В. как государственного учреждения
,
,
Acknowledgements
The article was prepared as part of the state assignment of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation on the topic “Interaction of cultural and linguistic laws: the Urals in the high dynamics of processes”, no. FEUZ-2023-0018
В 1998 г., начиная свою статью, посвященную перспективам изучения Кабинета е. и. в. в XVIII в., М. В. Бабич, известный специалист по истории государственного управления при Петре I, отмечала: «Обращаясь к истории личных императорских канцелярий XVIII в., которые современники чаще именовали кабинетами, ученые оказываются сегодня примерно в том же положении, как пытавшийся 200 лет назад оценить “его величества Кабинет” живо-писатель “Деяний Петра Великого”. Хорошо зная “бумаги” Кабинета, И. И. Голиков пытался выразить понимание его значения в государственном управлении в образе источника “всех прочих присутственных мест”, но подкрепить столь емкую формулировку мог лишь приблизительными данными о биографии секретаря преобразователя и количестве подчиненных ему служителей» [Бабич, 1998, с. 35]. По прошествии более чем 20 лет с момента публикации статьи М. В. Бабич в исторической науке мало что изменилось.
До сих пор единственным более или менее системным 1 исследованием, касающимся функционирования Кабинета в петровской России, остается книга «200-летие Кабинета Его Императорского Величества. 1704–1904 гг.» [1911], увидевшая свет в начале XX в.. В первых пяти главах, написанных В. Н. Строевым и П. И. Варыпаевым, были описаны обстоятельства создания должности кабинет-секретаря, обозначена сфера компетенции Кабинета, его служебный штат, статьи расходов и т. д. В дополнение к этому стоит отметить работы, авторы которых стремились обозначить положение государственного органа в общей системе управления. Так, Е. В. Анисимов прослеживает изменение «кабинетных» функций на протяжении первой трети XVIII в. и приходит к выводу, что Кабинет во многих аспектах дублировал работу высшего и центрального управления, нарушая бюрократический «регулярный» порядок [Анисимов, 1997, с. 287]. Единичные исследования посвящены жизненному пути кабинет-секретаря А. В. Макарова [Алексеев, 2001; Бантыш-Каменский, 1836, с. 277–278; Демкин, 2019; Захаров, 2011; Макаров, 1896; Павленко, 1985, с. 233–308; Поляков, 2021; Русские избранники…, 1886; Серов, 2007, с. 54–55; Шереметевский, 1889].
Соответственно, изучение специфики функционирования Кабинета е. и. в. и его места в системе управления как в период петровских реформ, так и в целом в XVIII в. сохраняет свою актуальность. Представляется необходимым интенсивное введение в науку комплексов исторических источников, отразивших деятельность Кабинета Петра I и плотно отложившихся в российских архивохранилищах, прежде всего в фонде № 9 «Кабинет Петра I и его продолжение» Российского государственного архива древних актов (РГАДА, Москва). Не претендуя на всеохватность и делая лишь первые шаги для реализации большого исследования, посвященного Кабинету Петра I, в настоящей статье сконцентрируем свое внимание на особенностях эволюции данного органа власти от единичной должности до влиятельного государственного института и роли в этом процессе кабинет-секретаря А. В. Макарова.
Учреждение Кабинета Петра I, как правило, относится исследователями к 1704 г., когда А. В. Макаров, служивший на тот момент подьячим в Ингерманландской (Ижорской) канцелярии кн. А. Д. Меншикова, был определен на службу ко двору государя и получил в свое ведомство дела, которые в дальнейшем будут названы «кабинетными». Стоит подчеркнуть, что при назначении А. В. Макарова речь шла исключительно о создании новой должности, тогда как об образовании подчиненного ему государственного института – Кабинета – умалчивалось [200-летие Кабинета…, 1911, с. XIII]. В целом практика создания органа власти, проходившего путь от одной-единственной должности до государственного учреждения, не была чем-то особенным, напротив, она являлась характерной чертой управленческих экспериментов Петра I. Как представляется, государь стремился передать наиболее важные сферы управления в руки лиц, пользовавшихся его доверием, а уже затем окружал их должностным штатом. Более того, согласно наблюдениям Н. И. Павленко, Алексей Васильевич стал именоваться кабинет-секретарем достаточно поздно: в 1708 г. он был записан как государева двора подьячий, в 1710–1713 гг. – придворный секретарь, с конца 1713 г. – кабинет-секретарь, с 1722 г. – тайный кабинет-секретарь [Павленко, 1985, с. 236]. Фактически изменения в наименовании должности маркировали рост его политического статуса и расширение кабинетного делопроизводства.
Историки не находят свидетельств о том, были ли в 1704 г. законодательно определены служебные полномочия А. В. Макарова. Алексей Васильевич при вступлении в должность не получил от царя какой-либо специальной инструкции, хотя, по мнению В. Н. Строева, имел представление, какие дела могли быть поручены его заботам [200-летие Кабинета…, 1911, с. 12–13]. Первостепенными и абсолютно доминирующими в арсенале А. В. Макарова стали функции личного царского секретаря. Предполагалось, что он возьмет под контроль все стадии царского документооборота. Не менее ответственной задачей являлось общее руководство имуществом и хозяйством монаршей семьи. В ведомстве А. В. Макарова находились значительные денежные суммы, которые оказывались вне контроля других управленческих структур и расходовались по воле монарха, минуя формальные бюрократические процедуры [Анисимов, 1997, с. 282–283]. Вкупе доступ к царской документации и заведывание его имуществом обеспечили А. В. Макарову устойчивые возможности для укрепления политического влияния.
В течение 1700-х гг. привлечение А. В. Макарова к государственным делам становилось все более интенсивным. Как отмечают исследователи, в первые годы Северной войны (1700– 1721) реформаторские начинания Петра I вращались вокруг военных запросов. Вопросы гражданского управления либо откладывались на будущее, либо были подчинены потребностям военного времени. В походной жизни личная канцелярия государя перемещалась вместе с ним, став при этом прообразом домовых и военно-походных канцелярий сподвижников Петра I (Походной канцелярии А. Д. Меншикова, Б. П. Шереметева и др.) [Бабич, 2011, с. 26]. К монарху, лично участвовавшему в военных действиях, направлялось огромное количество документов, связанных с деятельностью войск, обеспечением фронта продовольствием и обмундированием, организацией постоя и т. д. Все многочисленные бумаги до того, как они попадали к государю, аккумулировал в своих руках А. В. Макаров. Постепенно Петр I стал поручать Алексею Васильевичу миссии, требовавшие от последнего не только технической передачи бумаг от адресанта к адресату, но и вовлечения в содержательную сторону дела. В некоторых случаях ему позволялось объявлять царские указания в личной корреспонденции 2.
Зарождающиеся доверительные отношения между А. В. Макаровым и Петром I спровоцировали рост интереса к его персоне у других государственных деятелей [200-летие Кабинета…, 1911, с. 10–11, 45]. Прежде всего они рассматривали царского секретаря как быстрый и надежный канал передачи информации государю, посредника, способного повлиять на положительное решение дела [Павленко, 1985, с. 251–255]. Согласно Н. И. Павленко, первыми увидели выгоду в создании деловых и личных связей с А. В. Макаровым «люди его круга» (А. В. Кикин, А. М. Девиер) и «близкие ему по социальному статусу корреспонденты» (А. А. Курбатов, В. С. Ершов). Затем к его услугам стали прибегать более влиятельные вельможи – Ф. М. Апраксин, М. М. и П. М. Голицыны, В. В. Долгоруков, М. П. Гагарин [Там же, с. 249]. Самым прозорливым и дальновидным, по мнению исследователя, оказался А. Д. Меншиков, который выдвинул Алексея Васильевича на службу к Петру I и тем самым обеспечил себе благодарного «предстателя» рядом с монаршей особой.
После победной Полтавской баталии 1709 г. общий вектор государственного реформирования кардинально изменился – военные проблемы стали отходить на второй план и уступать место необходимости преобразовать гражданскую систему управления. Петр I в свойственной ему манере старался все вопросы контролировать лично, тем более, что война отнимала у него все меньше времени. На протяжении 1710–1720-х гг. документация, поступавшая в царскую канцелярию, увеличивалась в геометрической прогрессии. Напрямую к государю предпочитали писать даже те государственные институции, которые с точки зрения управленческой иерархии имели других начальников. В частности, таким образом поступали губернаторы, которые регулярно посылали доношения, табели и прочую отчетную документацию не в Правительствующий Сенат, которому они непосредственно подчинялись, а к А. В. Макарову для доклада монарху [200-летие Кабинета…, 1911, с. 54]. Более того, Петр I лично маркировал роль Алексея Васильевича в документообороте, при этом освобождая себя от части обязанностей. Он принудил соратников пользоваться посредничеством А. В. Макарова, писать к нему прежде, чем обращаться к себе [Там же, с. 14–15]. В итоге «что-то докладывать, предлагать, просить лично царя мог весьма ограниченный круг людей». Для большинства обратиться к царю значило обратиться к А. В. Макарову [Анисимов, 1997, с. 283].
Загруженность А. В. Макарова государственными делами не поддавалась сравнению. Например, камер-юнкер Ф. В. Берхгольц, передавая детали повседневной жизни царского окружения, отмечал, что «Его Высочество (герцог голштинский Карл-Фридрих. – М. Н. ) очень обрадовался ему (А. В. Макарову. – М. Н .), потому что он обыкновенно до того бывает занят, что его почти никогда нельзя пригласить» (Дневник камер-юнкера…, 2018, с. 376). Со временем для своевременного решения государственных задач вокруг кабинет-секретаря сложился штат канцеляристов, помогавших ему в процессе обработки документов и передачи их правителю. Штат Кабинета составляли личный помощник А. В. Макарова секретарь И. А. Черкасов и несколько подьячих [200-летие Кабинета…, 1911, с. 20–22]. Дополнительно к основному штату при Кабинете состояли курьеры, денщики и генерал-адъютанты Петра I, корреспонденты-агенты в других странах. В 1721 г. из-под пера А. В. Макарова вышла специальная должностная инструкция для кабинетных подьячих «Определение как содержать в кабинетной конторе порядок в делах». К началу 1720-х гг. историки также относят появление понятия «кабинетный счет», на который записывали те или иные государственные расходы [Анисимов, 1997, с. 284]. Подобное расширение кабинетного делопроизводства, по мнению Е. В. Анисимова, укладывалось в рамки процесса бюрократизации, отхода от традиционных, патриархальных форм функционирования самодержца [Там же, с. 283].
Параллельно крепло чувство доверия Петра I по отношению к А. В. Макарову. Согласно исследованию П. Н. Строева, особенному сближению монарха с его секретарем содействовали заграничные поездки 1715–1717 гг., в которых А. В. Макаров неизменно сопровождал своего покровителя. Царскую милость по отношению к кабинет-секретарю замечали даже иностранцы. Ф. В. Берхгольц в своих записках называл А. В. Макарова «большим фаворитом императора» и подчеркивал, что «в его ведении значительные суммы денег и все дела секретные и такие, о которых ничего не дается знать Сенату» (Дневник камер-юнкера…, 2018, с. 121, 376). Хотя должность кабинет-секретаря изначально предполагала, что ее не мог занимать человек, не пользующийся благосклонностью правителя, царское доверие необходимо было оправдывать ежедневно. От А. В. Макарова требовалось не только добросовестно вести дела Кабинета, но и внимательно относиться к настроениям и желаниям государя. В первую очередь политическая чуткость кабинет-секретаря проявлялась в том, как он выполнял посреднические функции при обмене корреспонденцией и каким образом выстраивал отношения с другими государственными деятелями, стремящимися через него воздействовать на решение Петра I.
Схематично путь, который проходил документ до государя и от него, можно обозначить следующим образом. Письмо, доношение или какие-либо другие материалы, предназначенные царю, поступали в Кабинет и подлежали записи в учетные книги. Нередко письмо, направленное Петру I, сопровождалось посланием лично к А. В. Макарову, в котором адресант просил доложить государю о содержании дела, передать документ в «благополучный час» 3, посмотреть на его реакцию и при необходимости оказать посильное содействие. В зависимости от степени доверительности отношений, сложившихся между адресантом и Алексеем Васильевичем, письмо могло: 1) ограничиваться исключительно просьбой об уведомлении, как государь воспринял изложенные в послании сведения; 2) иметь общие указания на суть письма без подробного пересказа (в таких случаях корреспонденты уточняли: «о чем мне надлежало писать, о всем писал я пространно до царского величества, ис чего изволите сами уведомитца» [Павленко, 1985, с. 254]); 3) полностью повторять информацию, содержавшуюся в обращении к царю; 4) дополнять сообщенные монарху сведения новыми деталями, которые кабинет-секретарь должен был передать или не передать по собственному разумению. Все это ставило просителя в определенную зависимость от А. В. Макарова, поскольку он определял, как, где и в каких обстоятельствах информация станет известна монарху или, наоборот, будет от него скрыта 4.
Не вызывает сомнений тот факт, что А. В. Макаров не только технически получал и передавал царскую корреспонденцию, но и внимательно изучал ее содержание прежде, чем отправиться на аудиенцию. В фондах РГАДА сохранился комплекс недатированных записей («пунктов» / «статей») кабинет-секретаря, представляющих перечисление дел, которые следовало обсудить с Петром I или выполнить после. Так, на одном листе находим: «К Бестужеву надобно указ о лицентном зборе; о деле вейдовом; о дворе питербурском Трубецкого, что с ним делать; о медалях к папе и кардиналам; о щетах Куракина, кому их отдать; о ластовых судах; о червонных князь Борису Ивановичу, чтоб заплатить в дом ево; к Куракину писать, на что не ответствовано, также и о векселе чрез Тамеса или других, и для того ис писем выписать; о 30 червонных, что за полотно на Александре Ивановиче; о фондербурховых письмах и о деньгах за учеников и за пленных, что в Швеции были; проведать в Сибири или здесь о свинце; о должности ексекуратору; о зотовых пожитках; сказать, чтоб трактаты печатали и для того, чтоб все скоряя збирали их; Алмазову сказать, что в Ближних Дубках огород насыпать и вкопать; о канале стрелинском князю, чтоб зачал» 5. Поражает количество и содержательная широта вопросов, доносимых кабинет-секретарем до государя. Держать в памяти и иметь свое мнение о каждом из них – на это требовался настоящий административный талант и неординарные исполнительские способности.
Во время доклада А. В. Макаров передавал Петру I документы, которые государь хотел прочитать полностью. Остальные, надо полагать, менее значимые, он зачитывал вслух по выписанным для экономии царского времени «пунктам». Решения и рассуждения монарха относительного каждого дела фиксировались на полях в виде резолюции / «разметки». Стоит отметить, что на практике ожидание А. В. Макаровым предметного разговора с Петром I, т. е. того самого «благополучного часа», могло затянуться на достаточно продолжительное время. Причины были разнообразны – от занятости монарха другими государственными делами до его болезни. В таких случаях нетерпеливые корреспонденты писали к А. В. Макарову повторно, требуя скорейшего решения дел. Кабинет-секретарь в ответ уведомлял: «не извольте ваша светлость (А. Д. Меншиков. – М. Н. ) возиметь на меня своего гнева, что сутки промешкался и того письма Его царскому величеству не объявил, что учинено выше речен-ного ради случая, а х тому же хотя бы я и в тот час донес, как то письмо получил, то только б прибавил болезни, а ускорить было ответ тем невозможно для того, что надобно было дожи-датца почтового дня» 6.
В исторической науке до сих пор дискутируется вопрос о том, мог ли А. В. Макаров влиять на решение государя и прислушивался ли Петр I к мнению кабинет-секретаря 7. Как представляется, однозначный ответ вряд ли будет найден, поскольку на данный момент ученым не известен какой-либо исторический источник, прямо указывающий на безоговорочное принятие монархом мнения Алексея Васильевича. Однако, некоторые косвенные факты, прежде всего контакты кабинет-секретаря с ближайшими соратниками Петра I, позволяют говорить о крайнем внимании государя к позиции А. В. Макарова. В подобном ключе могут рассматриваться многочисленные просьбы петровских соратников оказать «предстательст-во», т. е. замолвить перед монархом слово, или исходатайствовать «милостивой» указ не только по государственным проблемам, но и по личным делам или спорам. Среди тех, кто в разное время пользовался протекцией А. В. Макарова, Н. И. Павленко выделял Ф. М. Апраксина, Я. В. Брюса, А. П. Волынского, М. П. Гагарина, П. А. Голицына, В. В. Долгорукова, А. А. Курбатова, А. И. Репнина, И. Ю. Трубецкого и пр. [Павленко, 1985, с. 251–265]. Наиболее ярко роль кабинет-секретаря прослеживается на примере его участия в судебно-следственных процессах А. Д. Меншикова, с которым у них сложились тесные деловые и личные связи [Накишова, 2021]. Среди корреспонденции, отправленной А. Д. Меншиковым А. В. Макарову в 1718–1725 гг., в период наибольшего морального напряжения для князя, регулярно встречаются подобные просьбы: «При сей цыдуле о чем упоминаетца, Его царскому величеству по посланному моему прошению благовремянно доложить, тако ж и Ее величеству всемилостивейшей государыне царице о том же о всем о предстательстве за меня подлинно донести и исходатайствовать немедленное решение, в чем на вашу милость яко на моего благодетеля весьма благонадежен есмь, и сам я вашей милости отслужить потщусь, и в той надежде, что вы сего моего прошения не пренебрежете, пребываю вашей милости доброжелательный и к службе охотный Александр Меншиков» 8. Надо полагать, что государственные деятели и, в особенности, изощренный в придворных играх А. Д. Меншиков не стали бы столь упорно писать человеку, который был бы им бесполезен и не имел какого-либо влияния на государя.
После аудиенции у правителя А. В. Макаров переходил к составлению и отправке ответных посланий. Кому-то из наиболее доверенных лиц Петр I писал собственноручно. Подобные письма после записи в кабинетные книги отправлялись адресату через курьеров. В иных случаях кабинет-секретарь отвечал просителю сам, тщательно передавая царские указания и ссылаясь на его волю. Е. В. Анисимов классифицирует такую группу писем как «служебные» [Анисимов, 1997, с. 284]. Кроме того, в Кабинете на основании резолюций на «пунктах» / «статьях» составлялись проекты именных «указов-ответов» 9. Когда текст указа был готов, А. В. Макаров снова показывал его государю, который документ или подписывал, или отправлял на доработку. В полномочия Алексея Васильевича входило объявление «кабинетных указов», т. е. составленных в Кабинете, в Сенате, на заседания которого он являлся регулярно, а при необходимости и в государственных учреждениях, к чьему ведомству постановления относились.
В зависимости от характера межличностных отношений, сложившихся между А. В. Макаровым и корреспондентом, к письму и указаниям от государя добавлялись уточняющие сведения. Например, кабинет-секретарь мог уведомить получателя о предпринятых мерах, передать детали аудиенции и реакцию государя на письмо, дать совет, как лучше действовать в сложившихся обстоятельствах, приложить копию документа, связанного с делом, рассказать об информации, полученной от других государственных деятелей и пр. 10 Не были чужды ему и проявления дружеских чувств, по крайней мере на бумаге 11. Видя тревожность просителя, Алексей Васильевич старался его успокоить, давал надежду на скорейшее разрешение дела. Например, 9 октября 1716 г. кабинет-секретарь писал из Копенгагена: «Письма вашей светлости (А. Д. Меншикова. – М. Н. ) все сюды исправно до их величеств доходят, которым оба их величествы зело довольны. Дела здешния весьма отменились так, как некогда чаяли, о чем изволите усмотреть ис письма Его величества, посланнаго к вашей светлости. Зело сожалею о трудах вашей светлости, також и о понесенных убытках в отпуску сюды правианту, матриалов и протчего» 12.
Таким образом, в конце 1710-х – 1725 г. А. В. Макаров являлся одним из наиболее влиятельных политических акторов, чье могущество основывалось на ресурсе царского доверия и посреднической функции при обмене корреспонденцией. Участие кабинет-секретаря в политической жизни государства во многом было схоже с ролью светлейшего князя А. Д. Меншикова в первые десятилетия правления Петра I [Анисимов и др., 2022, с. 57]. Представляется, что, аналогично с Александром Даниловичем, кабинет-секретарь рассматривался представителями политической элиты как наиболее быстрый и эффективный канал передачи информации монарху и, более того, как «прямой представитель и выразитель официальных мнений Петра I, исполнитель его воли» [Кочегаров, 2022, с. 116–117], к которому при случае можно обратиться за помощью и пособничеством.
Характеризуя Кабинет Петра I как государственное учреждение, нельзя не отметить, что его политическое назначение не ограничивалось лишь задачами личного царского секретариата (при всей их важности и значимости). Ведомству А. В. Макарова по воле государя были поручены несколько ключевых управленческих проектов, в том числе: организация строительных работ от Кабинета в Риге, Ревеле, Рогервике, Дубках и в царских резиденциях; содержание придворной службы; найм мастеровых из Англии, Голландии и Франции и их финансовое обеспечение; контроль за Городовой канцелярией (с 1723 г. – Канцелярией от строений); руководство Садовой конторой Б. Неронова; написание «Гистории Свейской войны» и многое другое [200-летие Кабинета…, 1911, с. 36–38; Павленко, 1985, с. 237–238]. В рамках широкой, если не сказать необъятной, сферы компетенций Кабинет выполнял несколько функций. Во-первых, он являлся пунктом, соединявшим государственные институты, географически и статусно далекие друг от друга. Через А. В. Макарова проходили контакты должностных лиц с Петром I, передавалась информация и оглашались царские решения. Кабинет выступал пунктом связи для различных государственных учреждений, а кабинет-секретарь решал спорные вопросы, возникавшие между ними, разделял сферы компетенции, помогал вырабатывать компромиссные решения, апеллируя к мнению монарха 13. Во-вторых, Кабинет играл значительную роль в распределении и перераспределении финансовых, материальных и человеческих ресурсов внутри общей системы управления 14. И, наконец, Кабинет осуществлял общий контроль над всеми этапами реализации проектов, имевших для Петра I особое значение. Так, под его наблюдением происходило строительство петергофского и стрельнинского дворцово-парковых комплексов. А. В. Макарову предписывалось сопровождать деятельность архитекторов, подготавливать и сверять чертежи дворцов, домов и парковых комплексов, контролировать общий ход строительства, выделять средства на покупку материалов, нанимать работников, разрешать конфликты между государственными учреждениями, занятыми в строительстве, и добиваться от Петра I своевременных указаний 15. В целом реализация столь глобальных управленческих проектов требовала от А. В. Макарова и его ведомства хорошей осведомленности, широких деловых и личных социальных связей, способности решать многофункциональные задачи.
Подходя к заключению, отметим, что за 1700-е – 1725 г. Кабинет Петра I как государственное учреждение претерпел значительные изменения от одной-единственной должности подьячего государева двора, по преимуществу занимавшегося царским хозяйством и ведшего его корреспонденцию, до влиятельного органа власти, имевшего свой штат, доход и сферу компетенций, не сравнимую по объему ни с одним другим государственным институтом. Кабинет заменял и дублировал функции других органов центральной или местной власти, более эффективно решая поставленные задачи по причине того, что его глава кабинет-секретарь А. В. Макаров имел прямой доступ к фигуре монарха и располагал устойчивыми деловыми связями со всеми государственными учреждениями без исключения.
Многофункциональность и политическая значимость Кабинета прямо зависели от места А. В. Макарова в системе государственного управления. А. В. Макаров к рубежу 1710– 1720-х гг. практически полностью монополизировал посредническую функцию, осуществляя связь правителя с другими деятелями и институтами. Более того, если для царских фаворитов (для того же А. Д. Меншикова) вытекающая из доверительных отношений с Петром I посредническая роль может быть расценена как проявление неформальной власти 16, то для А. В. Макарова осуществление посредничества являлось вполне формальной функцией, входившей в его должностные полномочия и ожидаемой от него. В дополнение кабинет-секретарь пользовался исключительным доверием царя, что делало его особенно привлекательным союзником на политической арене. Многие представители петровской политической элиты, независимо от их социального статуса, стремились заручиться поддержкой А. В. Макарова, выстроить с ним лояльные отношения и по максимуму использовать его возможности для достижения собственных целей. Алексей Васильевич, в свою очередь, также умело пользовался открывавшимися для него перспективами, увеличивая благосостояние, расширяя деловые и личные связи, закрепляясь в среде наиболее знатных, богатых и влиятельных вельмож.
Все это привело к тому, что после кончины Петра I 29 января (8 февраля) 1725 г. Кабинет е. и. в. и лично тайный кабинет-секретарь А. В. Макаров оказались одними из могущественнейших государственных институций, определивших вектор дальнейшего политического развития Российской империи.
Список литературы Место и роль кабинет-секретаря А. В. Макарова в процессе становления кабинета Е. И. В. как государственного учреждения
- Алексеев А. И. Архив А. В. Макарова – кабинет-секретаря Петра I в Отделе рукописей Рос-сийской национальной библиотеки // От Нарвы к Ништадту: петровская Россия в годы Северной войны 1700–1712 гг.: Сб. материалов Всерос. науч. конф., посвящ. 280-летию со дня заключения Ништадского мира. СПб., 2001. С. 5–7.
- Анисимов Е. В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII века. СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. 331 с.
- Анисимов Е. В., Базарова Т. А., Проскурякова М. Е. «Наш патрон и заступник»: язык кор-респондентов А. Д. Меншикова // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2022. Т. 21, № 1: История. С. 49–62. DOI 10.25205/1818-7919-2022-21-1-49-62
- Бабич М. В. Кабинет императорского величества в XVIII в.: традиция и перспективы изуче-ния // Вестник Челяб. гос. ун-та. 1998. № 1. С. 35–45.
- Бабич М. В. Военно-организационная деятельность А. Д. Меншикова в материалах Россий-ского государственного архива древних актов // Меншиковские чтения – 2011. СПб., 2011. Вып. 8. С. 21–33.
- Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей русской земли. М.: Тип. Августа Семена при Императорской Медико-хирургической академии, 1836. Ч. 2. 459 с.
- Демкин А. В. Внутренняя политика Екатерины I и Верховного тайного совета. М.: Ин-т рос-сийской истории РАН, 2011. 258 с.
- Демкин А. В. Русские деловые люди XVIII столетия. М.: Ломоносовъ, 2019. 192 с.
- Захаров А. В. Макаров Алексей Васильевич // Большая российская энциклопедия. М., 2011. Т. 18. С. 505.
- История Правительствующего сената за двести лет. 1711–1911 гг. СПб.: Сенатская типогра-фия, 1911. Т. 1. 736 с.
- Кочегаров К. А. Официальные и неформальные взаимоотношения гетмана и царского пра-вительства в эпоху Мазепы // Патроны, слуги и друзья. Русско-украинские неформаль-ные связи и управление Гетманщиной в 1700–1760-х гг. Исследование и источники. Ека-теринбург, 2022. С. 43–120.
- Лазарев Я. А. Российская политика на Украине и русско-украинские неформальные связи после Полтавы (1709–1722) // Патроны, слуги и друзья. Русско-украинские неформаль-ные связи и управление Гетманщиной в 1700–1760-х гг. Исследование и источники. Ека-теринбург, 2022. С. 121–218.
- Макаров (Алексей Васильевич) // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1896. Т. 18. С. 401.
- Милюков П. Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и ре-форма Петра Великого. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1905. 702 с.
- Накишова М. Т. Кабинет-секретарь А. В. Макаров и его роль в Почепском деле князя А. Д. Меншикова // Вестник Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2021. № 5. С. 18–27.
- Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова. М.: Мысль, 1985. 332 с.
- Петровский С. О Сенате в царствование Петра Великого. СПб.: Университетская типогра-фия, 1875. 360 с.
- Полонский Д. Г. Эпистолярный этикет во взаимоотношениях А. Д. Меншикова с представи-телями властной элиты Петровской эпохи // Меншиковские чтения – 2011: Научный альманах. СПб., 2011. Вып. 2 (9). С. 75–93.
- Полонский Д. Г. «Меня здесь приемлют якобы сына Вашего»: письма П. И. Ягужинского А. Д. Меншикову как источник истории отношений политиков Петровской эпохи: (Ис-следование и публикация) // Вестник РГГУ. 2012. № 21 (101). С. 221–232.
- Поляков И. А. К вопросу о происхождении кабинет-секретаря Петра Великого Алексея Ва-сильевича Макарова (1674–1740) // Исторический курьер. 2021. № 5 (19). С. 9–19.
- Русские избранники и случайные люди. Составил Георг фон-Гельбиг, секретарь саксонского посольства при дворе Екатерины II, 1787–1796 // Русская старина. 1886. Т. 50. С. 1–180.
- Серов Д. О. Администрация Петра I. М.: ОГИ, 2007. 286 с.
- Шереметевский В. В. Дела следственной о кабинете-секретаре Петра I А. В. Макарова ко-миссии (1732–1734) // Описание документов и бумаг, хранящихся в московском архиве Министерства юстиции. М., 1889. Т. 6. С. 37–42.
- 200-летие Кабинета Его Императорского Величества. 1704–1904. Историческое исследова-ние. СПб.: Тов-во Р. Голике и А. Вильборг, 1911. 794 с.