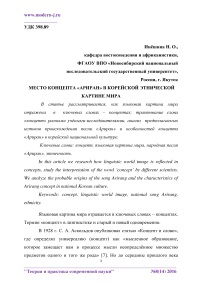Место концепта "ариран" в корейской этнической картине мира
Автор: Иншина Н.О.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 8 (14), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается, как языковая картина мира отражена в ключевых словах - концептах; трактование слова «концепт» разными учёными-исследователямии, анализ предполагаемых истоков происхождения песни «Ариран» и особенностей концепта «Ариран» в корейской национальной культуре.
Концепт, языковая картина мира, народная песня "ариран", этничность
Короткий адрес: https://sciup.org/140269647
IDR: 140269647
Текст научной статьи Место концепта "ариран" в корейской этнической картине мира
Языковая картина мира отражается в ключевых словах – концептах. Термин «концепт» в лингвистике и старый и новый одновременно.
В 1928 г. С. А. Аскольдов опубликовал статью «Концепт и слово», где определял универсалию (концепт) как «мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределённое множество предметов одного и того же рода» [7]. Но до середины прошлого века 1
понятие «концепт» не воспринималось как термин. Лишь в 80-е гг. XX в. вновь возникает понятие «концепта» как термина, который послужит объяснению единиц психических процессов нашего сознания.
В «Большом энциклопедическом словаре» дается следующее определение концепта: «Концепт (от лат. cоncеptus – мысль, понятие) – смысловое значение имени (знака), т.е. содержание понятия, объект которого есть предмет имени (например, смысловое значение имени Луна – Естественный спутник Земли)» [11].
На первый взгляд, концептом можно назвать лексическое значение слова. Однако доказанным считается тезис американского лингвиста Рональда Лангакера о том, что значение слова в статье словаря представлено «недостаточным, узким, далёким от когнитивной реальности». Приведем ещё несколько наиболее известных определений концепта.
Создатели сборника «Язык и наука конца 20 в.» (Кубрякова и др. 1995) употребляют термин «концепт» как пример изменившейся научной парадигмы, как один из центральных объектов эпистемологии современной лингвистики. «Концепт» как когнитивный термин оказывается связанным с тем аспектом лингвистики, который обращен к проблеме значения как ментальной сущности, к роли слова в процессах категоризации действительности, речемыслительной деятельности, поэтому использование термина с когнитивных позиций при описании семантики языка считается правомерным [10]. Так, термин «концепт» в современной лингвистике используется для обозначения мыслительного образа, называемого той или иной лексической единицей. Нельзя изучать смыслы вне того, без чего они не существуют – без внутренних миров их носителей и в отвлечении от говорения и понимания как процессов. Гумбольдт имел в виду то же самое, когда говорил о понимании языка как
«мира, лежащего между миром внешних явлений и внутренним миром человека» [8].
Краткий словарь когнитивных терминов предлагает следующее определение концепта: «Концепт – термин, служащий объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека» [10].
В «Словаре русской культуры» Ю. С. Степанов пишет, что «концепт – явление одного порядка, что и понятие. По своей внутренней форме в русском языке слова «концепт» и «понятие» одинаковы: «концепт» является калькой латинского conceptus «понятие» от глагола concipere «зачинать», т.е. значит буквально «поятие, зачатие»; понятие от глагола поятиу др.-рус. «схватить, взять в собственость, взять женщину в жены» буквально значит, в общем, то же самое. В научном языке эти два слова также иногда выступают как синонимы, но так они употребляются лишь изредка. В настоящее время они довольно четко разграничены [16].
Далее Ю. С. Степанов продолжает: «концепт» и «понятие – термины разных наук; второе употребляется главным образом в логике и философии, тогда как первое, концепт, является термином в одной отрасли логики – в математической логике, а в последнее время закрепилось также в науке о культуре, в культурологи».
В «Очерках о когнитивной лингвистике» концепт трактуется как «информационная структура, которая отражает знание и опыт человека, оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике».
Академик Д. С. Лихачёв под концептами понимал «своего рода алгебраическое выражение значения, которым человек оперирует в своей письменной речи» [12]. Так, Р. М. Фрумкина определяет концепт «как вербализованное понятие, отрефлексированное в категориях культуры» [19].
С точки зрения В. Н. Телия, «концепт – это продукт человеческой мысли и явление идеальное, присущее человеческому сознанию вообще, а не только языковому. Концепт – это конструкт, он не воссоздается, а реконструируется» через своё языковое выражение и внеязыковое знание» [18].
В связи с этим, мы считаем, что концепт может быть пределен как ментальная единица сознания, как правило, имеющая выражение в языке и отмеченная национально-культурной спецификой, зависящей от менталитета носителей языка.
На основе концепта можно построить фрагмент языковой картины мира. В философско – лингвистической литературе термин «картина мира» именуется как представление человека о мире, которое складывается в результате взаимодействия человека с этим миром. Под картиной мира И. А. Стернин и З. Д. Попова подразумевают «упорядоченную совокупность знаний о действительности, сформировавшуюся в общественном, групповом и индивидуальном сознании» [17].
По мнению Б. А. Серебренникова, «картина мира запечатлевает в себе определенный образ мира, который никогда не является зеркальным отражением мира» [15].
Понятие «концепт» пришло из философии и логики и в последние 20 лет оно переживает период актуализации и переосмысления.
В первой половине ХХ в. американская антропологическая школа Франца Боаса начала изучение такого явления, как этническая картина мира. Ученица Боаса, Рут Бенедикт, написала первую знаменательную работу в этом направлении под названием «Модели культуры». В этой работе было положено начало поискам оснований функционирования этноса и тех психологических составляющих, которые являются едиными для всех его членов. Понятия «картина мира» и «национальный характер» в рамках традиции, которая сложилась с участием Бенедикт, получились практически неразличимыми.
Картина мира выступает сложным многоаспектным явлением, так как с одной стороны, является универсальным для всех народов, с другой стороны, имеет вариативный характер и имеет сложное семиотическое осмысление. Она предстает не только одним из источников для анализа образа жизни, истории, традиций и обрядов этноса, но самое главное, предстает ядром самоорганизации, функционирования, силой, сплачивающей этносы [6].
Одним из исследователей, в работах которой представлена наиболее углубленная и детальная разработка феномена «этническая картина мира», является С. В. Лурье. Как она считает, этническая картина мира – это «одно из фундаментальных оснований любой культуры», «неспецифичный защитный механизм». Согласно Лурье, этническая картина мира – «это некоторое связное представление о бытии, присущее членам данного этноса. Это представление выражается через философию, литературу, мифологию (в том числе и современную), идеологию, поступки людей и т. п. Оно, собственно, и служит базой для объяснения людьми своих действий и своих намерений» [13].
Каждый этнос имеет специфическую для своего народа картину мира. Этническую картину мира имеют и корейцы. Концепты выявляют взаимодействие всех основных антропологических факторов: этнического, исторического, психологического, языкового и культурного. Соответственно каждая из наук формирует собственный взгляд на концепт.
В этнологии концепты представляют собой ключевые компоненты этнической картины мира, составляющие «адаптивную систему народа» [14]. Рассматривая концепты в контексте идей Л. Н. Гумилева, можно сказать, что в концептах воплощаются «стандарты поведения членов этнической системы» [9]. Таким образом, с точки зрения этногенеза концепты вполне можно рассматривать как сигналы наследственности, восходящие к традиции и связанные с адаптацией членов этноса к окружающему миру.
Концепт «Ариран» имеет довольно весомую роль в этнической картине мира корейцев. Этническая картина мира, согласно С. В. Лурье, меняется со временем вместе с народом. Являясь частью корейского фольклора, «Ариран» был подвержен многочисленным изменениям своего исходного текста в угоду определенному историческому этапу Корейского полуострова, что меняло не только смысл самой песни, но и отношение к ней.
В песне превозносились различные ценности, в зависимости от обстановки в народе, его отношению к окружающему миру. К примеру, во время японской оккупации, множество текстов песни «Ариран» было на тему освобождения от гнета японской армии, что поддерживало дух и сохраняло самоидентификацию корейского народа. Именно посредством уничтожения языка и фольклора японцы пытались уничтожить корейскую культуру и национальную самоидентификацию, и «Ариран» было уделено особое внимание. Японские солдаты сжигали песенники, содержащие «Ариран», запрещали петь саму песню. Тем не менее, фольклор практически невозможно искоренить, в силу его устной формы, что несомненно помогло сохранится «Ариран» и не дало подорвать корейскую самоидентификацию [1].
«Ариран» относят к народной музыке, а именно к её жанру минё (кор. УН , КМ ). Минё буквально означает «песня народа». «Народ» в данном контексте, в первую очередь необразованные люди из низшего класса.
В корейской истории два основных класса людей играли различные роли в корейском обществе и переняли совершенно разные типы музыки. Люди из высшего класса, более образованные, как правило, работали на правительство, и музыка для них являлась лишь аккомпанементом для религиозных мероприятий. Люди из низшего класса были в основном фермерами, и пение было частью их повседневной жизни. Самым ранним видом минё является хянга эпохи Силла (57 г. до н.э.-935 г. н.э.). Королева Силла Чжисон (887–897 гг.), во время ее правления была заинтересована в хянга (кор. У?Ь Ш^ ), и поэтому их собирали по всей стране. Позднее, влияние Китая побудило людей из высшего класса почитать китайскую культуру больше, чем свою собственную, и даже рассматривать её, как некий идеал. Постепенно, хянга практически утратила свой корейский дух и стала ближе к китайской музыке, как результат многовекового подражания китайским музыкальным стилям.
В отличие от этого, люди из низшего класса и их музыкальные стили, как правило, не зависели от китайских или других воздействий, в результате чего народные песни были лучше сохранены именно людьми низших сословий, которые, таким образом, стали истинными представителями корейской культуры. Поэтому минё людей из низшего класса является тем видом народной песни, который наиболее точно отражает подлинный корейский дух [3].
Народные песни не требовали какой-либо публики. Люди естественно выражали свои эмоции о своей повседневной жизни определенной привычной мелодией и словами. Минё были тем видом народных песен, которые не требовали тренировки. Фактически, в этом и был весь смысл: минё заработали себе популярность у корейского народа именно потому, что их мог петь кто угодно, а их темы, которые выражали оптимизм, любовь к простой жизни, и чувство хан, присущее корейцам, находили у них отклик. Общинный образ жизни в корейских сельских общинах предрасполагал к песням - для корейских крестьян пение было хорошим способом сделать рабочий день более приятным, и многие общественные праздники часто отмечались радостным пением и танцами [4].
На сегодняшний день одна из многочисленных версий ученых состоит в том, что смысл слова «Ариран» или « арари » не имеет какого-либо особого значения; это некое подобие скэта . Такие бессмысленные сочетания слогов очень часто можно найти в припевах древних сига ( ^^ , кор. A|7f, корейские поэмы и песни). В этом отношении, «Ариран» или « арари » не слово с каким-то особым значением, а скорее некий вид « куым » ( Д^ ,кор. ^^ , «звук рта»), или скэт , который повторяется в припеве песни, чтобы создать оживленную атмосферу.
У «Ариран» достаточно долгая история. Согласно учёным, которые изучали «Ариран», существует примерно двадцать четыре возможных истоков композиции, и около трёх тысяч дошедших до наших дней версий, которые распадаются на пятьдесят основных ветвей. Среди множества версий происхождения существует теория, связанная с реконструкцией дворца Кёнбоккун в период династии Чосон (1392–1910 гг.), которой придерживается корейский учёный Нам Тосан. Дворец был разрушен во время японского нашествия, которое продлилось с 1592 по 1598 г. Король Коджон был ещё слишком молод, поэтому его отец, Хынсон Тэвонгун, отвечал за реконструкцию дворца. Он заставлял людей платить налоги за реконструкцию, а также работать на ней. Требования правителя были настолько высоки, что люди по всей стране стали кричать «Аирон, аирон» (кор. 아이롱, что в переводе означает «Хотел бы я быть глухим»), лишь бы не слышать новых приказов. Считается, что возглас «аирон» впоследствии трансформировался в «ариран» и рассредоточился по всей стране в качестве песни.
Есть ещё одна версия, которая принадлежит учёному Ян Чжудону, исходя из которой, «Ариран» стала распространённой в период Трех Государств, и была в виде песни, посвящённой королеве Арён (кор. 아령 ), жене правителя Силла. Согласно памятникам «Самгуг Юса» и «Самгуг Саги», она была из семьи дракона и родилась в колодце под названием «Арён» (кор. 아령정 ). Прекрасная королева сопровождала короля в его путешествии по стране, воодушевляя простой народ заниматься сельским хозяйством. Во время путешествия люди посвятили песню королеве, которую и считают ранним «Ариран». Такое мнение основано на схожести произношения слов «Арён» и «Ариран». Теория происхождения «Ариран» из имени исторической личности более всего считается уместной, в силу её фольклорного происхождения [5].
Основной причиной для отсутствия точного определения истоков является давний пробел в изучении песни «Ариран», значение которой было сильно занижено в научных кругах до 1970-х гг. Положительные перспективы на её изучение появились только в конце ХХ в., а активное исследование началось лишь около тридцати лет назад [2].
Кроме того, несколько крупных войн, с которыми Корея сталкивалась на протяжении своей истории, а также постоянный список политических вопросов, начиная с японского колониального периода (1910–1945 гг.) до разделения страны и военных диктатур после корейской войны (1950–1953 гг.) – послужили почти полному прекращению изучения фольклора, в том числе и песни «Ариран». Как следствие, в те 9
исторические периоды люди часто вынуждены были покидать свои родные города и переселяться в другие места.
Поскольку народные песни передаются именно в устной форме, продолжительное смешение людей из разных регионов определённо повлияло на корейские народные песни и стёрло различия между ними. Однако, именно это заставило людей проникнуться ценностью «Ариран», как песней подлинного корейского духа.
Таким образом, можно констатировать, что на современном этапе развития лингвистики языковые модели мира становятся объектом описания и интерпретации в рамках комплекса наук о человеке. Картина мира любого языка рассматривается не только в контексте фольклора, мифологии, культуры, истории, обычаев и психологии данного народа, но и в контексте лингвистики.
Список литературы Место концепта "ариран" в корейской этнической картине мира
- Kim, Shi-op. «Arirang, Modern Korean Folk Song» Korea Journal. Vol. 28, No.7, (July 1988), p. 5.
- Kim Youn-gap. The Origin of Arirang and Meari: Its Original Form, Korea Journal Vol.28, No.7 (July) 1988: 20-34.
- Lee Chung-myun. A Study of Shinto Shrines in Ancient Japan with Reference to Korean migration//Chirihak yongu. 2009. №14. p. 26-28.
- Robert Koehler. Traditional music: sounds in harmony with nature Seoul Selection, 2011, 109 p.
- Yang Zu-dong. Popular Songs of Koryo Dynasty, Korea Journal Vol. 3, No. 1 (January) 1963: 11-14.
- Арчимачева М. Ю. Картина мира в традиционном мировоззрении коренного населения хакасско-минусинской котловины//Неотрадиционализм в условиях современных социокультурных трансформаций: региональный аспект исследования: материалы региональной заочной научно-практической конференции (г. Абакан, март 2010 г.)/ГОУ ВПО «Хакас. гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова», Центр социально-полит. и гуманит. образования; отв. ред. Л. В. Анжиганова. -Абакан, 2010.
- Аскольдов С. А. Концепт и слово//Русская словесность: Антология/под ред. В.П.Нерознака. -М.: Academia, 1997, с. 267.
- Гумбольдт В. О. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества//Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. -М., 1984. -С. 156-158.
- Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб.: Издательство: Кристалл, 1989. -503 с.
- Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. М.: Филол. ф-т МГУ, 1996. С. 90.
- Лингвистический энциклопедический словарь. Гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Научное изд-во «Большая Российская Энциклопедия», 2002.
- Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка/Д. С. Лихачев//Известия Академии наук. Серия Литературы и языка. -1993. -Т. 52. -№1. -С.3-9.
- Лурье С. В. Этническая картина мира. //URL: http://svlourie.narod.ru/hist-ethnology/9.htm
- Лурье С.В. Историческая этнология: Учебное пособие для вузов. -М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2004. -624 с.
- Постовалова В. И. Картина мира в жизнедеятельности человека/В. И. Постовалова//Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. Под ред. Б. А. Серебренникова. М.: Наука, 1988. -С. 60.
- Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования/Ю. С. Степанов. -М., 1997. -с. 40
- Стернин И. А. Лексическое значение и энциклопедическое знание/И. А. Стернин//Аспекты лексического значения. -Воронеж, 1982. -С. 51.
- Телия В. Н. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира/В.Н.Телия//Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. -М.: Наука, 1988. -С. 173-190.
- Фрумкина P. M. Концепт, категория, прототип/Р.М.Фрумкина//Лингвистическая и экстралингвистическая семантика. -М., 1992. -95 с.