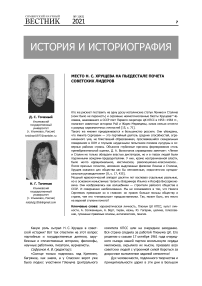Место Н. С. Хрущева на пьедестале почета советских лидеров
Автор: Д. С. Точеный, Н. Г. Точеная
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1 (43), 2021 года.
Бесплатный доступ
Кто же рискнет поставить на одну доску исполинские статуи Ленина и Сталина (коих было не перечесть) и скромные немногочисленные бюсты Хрущева? Человека, занимавшего в СССР пост Первого секретаря ЦК КПСС в 1953—1964 гг., полагают известные историки Рой и Жорес Медведевы, никак нельзя отнести к разряду харизматичных личностей [15, с. 71]. Такого же мнения придерживается и большинство россиян. Они убеждены, что Никита Сергеевич — это партийный деятель средних способностей, ограниченного ума, не блиставший образованием, прославившийся скандальным поведением в ООН и глупыми неудачными попытками посевов кукурузы в северных районах страны. Объясняя глубинные причины формирования столь пренебрежительной оценки, Д. А. Волкогонов справедливо замечает: «Ленин и Сталин не только обладали властью диктаторов, но и в глазах людей были подлинными вождями-предводителями. У них, кроме неограниченной власти, было нечто иррациональное, мистическое, революционно-классическое… После мрачных гигантов, носивших выдуманные фамилии Ленина и Сталина, Хрущев оказался для общества как бы легковесным, недостаточно ортодоксальным руководителем» [8, с. 17, 435]. Мощный идеологический аппарат десятки лет воспевал отдельные реальные, но в основном немыслимые таланты Владимира Ильича и Иосифа Виссарионовича. Они изображались как волшебники — строители райского общества в СССР. И совершенно необоснованно. Мы не сомневаемся в том, что Никита Сергеевич превзошел их в главном: он принес больше пользы обществу и стране, чем его «гениальные» предшественники. Так, может быть, его место на верхней ступени почета?
Харизматическая личность, Пленум ЦК К ПСС, к ульт л ичности, А. Солженицын, А. Верт, тиран, казнь, Ю. Гагарин, целина, голосование, гуманные правовые основы, антисемитизм, пенсия
Короткий адрес: https://sciup.org/14119677
IDR: 14119677
Текст научной статьи Место Н. С. Хрущева на пьедестале почета советских лидеров
Какую роль сыграл Н. С. Хрущев в советской истории? Вот так ответили на этот вопрос партийные и государственные деятели, зарубежные и отечественные историки, философы, научные работники, писатели, журналисты.
Софронов А. В. (редактор):
«Солнце только поднялось над Кремлем, багряное, как знамя, а у Спасских ворот уже было людно: участники Пленума Центрального комитета КПСС шли на очередное заседание. Вся страна следила за работой Пленума ЦК. Его решение о созыве 17 октября 1961 года очередного съезда нашей партии всколыхнуло сердца миллионов, окрылило их мысли, призвало всех советских людей с утроенной силой бороться за досрочное выполнение заданий семилетки!
Дух человечности, подлинного творчества и принципиальности царил в эти дни в Большом
Кремлевском дворце. Не обольщаться успехами, учитывать растущие требования жизни — такова ленинская традиция, которой следовали участники январского пленума. Записка товарища Н. С. Хрущева в Президиум ЦК партии, тезисы его выступления, само выступление Первого секретаря ЦК КПСС, Председателя Совета Министров СССР на Пленуме и решения Пленума — эти исторические документы вооружают отныне тружеников села в их борьбе за новые рубежи семилетки.
Работа Пленума — образец ленинского подхода к рассмотрению жизненно важных вопросов коммунистического строительства» [21, с. 2—3].
Розенталь М. М., Юдин П. Ф. (философы):
«Коммунизм, — говорит Н. С. Хрущев, — вырастает из социализма, является его прямым продолжением. Было бы неправильно, ошибочно думать, что коммунизм появился как-то внезапно. Переход от социализма к коммунизму осуществляется непрерывно. Однако постепенный переход к коммунизму нельзя принимать как какое-то замедленное движение. Наоборот, это есть период быстрого развития всех сторон жизни нашего общества. Кроме того, такая форма развития не исключает и быстрых, резких скачков в тех или иных областях (например, в технике, науке и т. д.).
…Большое значение для творческого развития марксизма и марксистской философии имеют выступления Н. С. Хрущева; их особенностью является непрерывное единство теории и практики; смелый творческий подход к проблемам, выдвигаемым исторической практикой.
…Выступления Н. С. Хрущева с критикой культа личности Сталина, а также по разнообразным теоретическим вопросам завоевали международное признание. Н. С. Хрущев раскрыл значение и роль в современных исторических условиях марксистско-ленинского учения о единстве теории и практики» [18, с. 406, 410, 413].
Воронов Г. (бывший член Президиума ЦК КПСС):
«Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 года… Падение Н. С. Хрущева… Мотивы участников Пленума были разные, а ошибка общая; вместо того, чтобы исправить ошибки одной яркой личности, стоявшей во главе партии, мы сделали ставку на другую личность, куда менее яркую. Подобные ошибки неизбежны, когда нет механизма критики руководства, исправления его ошибок, а когда надо, его замены. Будем объективны: в первое время многим пришлась по душе сдержанность нового руководства, пришедшего на смену Хрущеву. Хотелось верить: раз стало меньше слов, значит, последует больше дел. Да и дела шли не так уж плохо: начались эксперименты в экономике, принесла плоды политика разрядки, но в целом-то поезд уже тормозил» [9, с. 219].
Аджубей А. (журналист):
«Утром в воскресенье Н. С. Хрущев обычно просил прочитать ему театральный репертуар и почти всегда выбирал что-нибудь знакомое. Младшие члены семьи стали ходить с отцом в театр чуть позже, а в начале 50-х эта повинность лежала на нас с женой. Я не оговорился: именно повинность. Никита Сергеевич чаще всего выбирал МХАТ, хотя все спектакли видел не один раз. «Горячее сердце», наверное, раз десять, не меньше, и мы вместе с ним. Соглашался на любую оперу в Большом, а к балету относился равнодушно. Правда, ходил на балетные спектакли, если танцевала Уланова или кто-нибудь из известных балерин. Любил он театр имени Моссовета» [4, с. 68].
Коржавин Н. (писатель):
«Какой философией и какой идейностью можно объяснить теперь почти забытое (а зря!) «рязанское чудо», когда для того, чтобы «догнать Америку по молоку и мясу», в Рязанской области перерезали существенную часть скота. Под радостные реляции с фронтов мясозаготовок, под всяческий звон литавр — догоняли. И ведь делали это работники, бывшие в своем большинстве людьми крестьянского происхождения (в том числе и инициатор «славного почина» секретарь обкома Ларионов), хорошо знавшие, что скот так быстро не воспроизводится, что если его перережешь, так его и не будет. Но ведь это даже и профаны знают. Это был даже не идиотизм, а массовая имитация сумасшествия.
В конце концов, когда скот перерезали, «все выяснилось» (а что тут надо было выяснять?), «инициатор» кончил жизнь самоубийством. Но что он до этого думал? На диалектику надеялся? На то, что в этом кроется какой-то особый диалектико-политический смысл? А если «подтолкнул» Хрущев, то что думал он? Ведь Хрущев родился не на Марсе, а в деревне Кали-новка под Курском. И глуп не был — особенно в таких вещах. Как же так?» [13, с. 12—13].
Солженицын А. (писатель):
«Историкам, привлеченным к 10-летнему царствованию Хрущева, когда как бы вдруг перестали действовать некие физические законы, к которым мы привыкли; когда предметы стали на диво двигаться против сил поля и против сил тяжести, — нельзя будет не поразиться, как много возможностей на короткое время сошлось в этих руках и как возможности эти использовались словно бы в игру, в шутку, а потом покидались беспечно. Удостоенный первой после Сталина силы в нашей истории — уже ослабленной, но еще огромной силы, — он пользовался ею как тот крыловский Мишка на поляне, перекатывая чурбан без цели и без пользы. Дано было ему втрое и впятеро тверже и дальше прочертить освобождение страны — он покинул это как забаву, не понимал своей задачи, покинул для космоса, для кукурузы, для кубинских ракет, берлинских ультиматумов, для преследования церкви, для разделения обкомов, для борьбы с абстракционистами.
Ничего никогда он не доводил до конца — и меньше всего дело свободы. Нужно было натравить его на интеллигенцию? — ничего не было проще. Нужно было его руками, разгромившими сталинские лагеря, — лагеря теперь же и укрепить? — Это было легко достигнуто. И — когда?
В 1956 году — году XX съезда — уже были изданы первые ограничительные распоряжения по лагерному режиму! Они продолжены в 1957 году — году прихода Хрущева к полной безраздельной власти» [20, с. 337].
Верт А. (французский историк):
«В ночь с 24 на 25 февраля 1956 года Хрущев в течение четырех часов зачитывал делегатам XX съезда КПСС «секретный доклад», показывавший развитие и упрочение «культа личности», его проявления и последствия за последние 20 лет… Доклад анализировал извращение Сталиным принципа демократического централизма, рассказывал о чистках и незаконных методах следствия, при помощи которых у тысяч коммунистов были вырваны совершенно невероятные признания. Развенчав миф о Сталине как «наследнике» и «гениальном продолжателе» дела Ленина, доклад атаковал и миф о Ста-лине-«военачальнике», разрушив канонический образ генералиссимуса и воссоздав облик нерешительного и некомпетентного человека, ответственного за сокрушительные поражения 1941—1942 гг. Доклад также показал ответственность Сталина за депортацию кавказских народов, огульно обвиненных в сотрудничестве с немцами, за конфликт с Тито, фабрикацию фальшивых заговоров в 1948 году («ленинградское дело»), 1951 году («мингрельское дело») и 1953 году.
…Однако, сужая рамки незаконных репрессий до одних только коммунистов, ставших жертвами личной диктатуры Сталина, доклад обходил ключевой вопрос об ответственности перед обществом партии в целом» [7, с. 351, 352].
Каганович Л. (бывший член сталинского Политбюро и Президент ЦК КПСС):
«Должен сказать, что я лучше знал Хрущева, дольше и больше всех, со всеми его положительными и отрицательными сторонами. Можно сказать, что я имел прямое отношение к выдвижению и передвижению Хрущева на руководящую общепартийную работу начиная с 1925 года. Я считал и считаю его выросшим и растущим партийным работником, выходцем из рабочих, способным быть руководящим деятелем в областном, краевом, республиканском и коллективном руководстве во всесоюзном масштабе. Но у меня не было уверенности в его способностях осуществлять роль Первого секретаря ЦК КПСС, особенно учитывая его недостаточный культурно-теоретический уровень, хотя при напряженной, как говорится, работе над собой это дело наживное. Политический же опыт у него был солидный.
…В истории бывало, когда случайно выдвинутые личности росли, развивались в процессе своей деятельности и развивались как вожаки. Но когда они, эти случайно выдвинувшиеся личности, игнорировали объективные закономерности и потребности общества, крах этой, случайно выдвинувшейся, личности был неизбежен. К сожалению, именно это случилось с Хрущевым — речь не идет о должности, а существе поведения в партийно-политическом руководстве, хотя были и положительные моменты в его деятельности, были и способности, и природный ум, ранее подкрепленный скромностью, а впоследствии подорванный зазнайством и волюнтаризмом.
…Если до конца первой половины 1955 года он соблюдал нормы коллективного руководства, то во второй половине 1955 года эти нормы Хрущев стал грубо нарушать. Эксцентричность в том смысле, как объясняет словарь это слово, «из ряда вон выходящий», или стремление, как говорили в Одессе, «свою я показать», начала у него проявляться все больше и больше… После XX съезда Хрущев начал «зарываться», нарушая коллективные методы руководства. Он начал вести себя так, как поется в украинской песне: «Сам пою, Сам гуляю, Сам стелюся, Сам лягаю. Сам!» Это не могло не вызвать недовольства» [11, с. 503, 504, 506, 510].
Микоян А. (бывший член сталинского Политбюро и Президиума ЦК КПСС):
«Я понимаю, что характер Хрущева для его коллег — не сахар, но в политической борьбе это не должно становиться решающим фактором, если, конечно, речь не идет о сталинском методе сведения счетов со своими подлинными или воображаемыми оппонентами. К Хрущеву такие аналогии не относились. В период борьбы за XX съезд мы с ним сблизились, оказались соратниками и единомышленниками. Хотя трудности его характера уже чувствовались. Но я видел и его положительные качества. Это был настоящий самородок, который можно было сравнить с неотесанным, необработанным алмазом. При своем весьма ограниченном образовании он весьма быстро схватывал, быстро учился. У него был характер лидера: настойчивость, упрямство в достижении цели, мужество и готовность идти против сложившихся стереотипов. Правда, был склонен к крайностям. Очень увлекался, перебарщивал в какой-то идее, проявлял упрямство и в своих ошибочных решениях, и капризах.
…Увлекаясь новой идеей, он не знал меры, никого не хотел слушать и шел вперед, как танк. Это прекрасное качество лидера проявилось в борьбе за десталинизацию, особенно в главном. Иногда, правда, он как бы пугался и шел на уступки. Так, дал себя испугать последствиями XX съезда для коммунистов Европы и отложил реабилитацию по процессам 1930-х гг. Это был противоречивый характер, очень нелегкий в работе и даже в личном общении.
…Трудно даже представить, насколько недобросовестным, нелояльным к людям человеком был Хрущев. Вернее, легко мог им быть… он как будто нарочно создавал своих врагов, но даже не замечал этого… Многие маршалы и генералы — члены ЦК КПСС — были против него за его перегибы в военном деле.
…Хотя с Хрущевым было трудно, но все же я был искренне огорчен его отстранением. Все-таки он гораздо больше понимал в политике, чем Брежнев, имел больший опыт работы в Политбюро. Наконец, его военный опыт на высокой должности члена Военного совета фронта был гораздо весомее, чем у Брежнева. Потом он был активным членом Военного совета, не то что некоторые. И вообще он болел за дело, был активным, твердым, когда надо было» [16, с. 597—598].
Горкин А. П., Карев В. М. (составители энциклопедического словаря):
«Хрущев Никита Сергеевич… Один из инициаторов «оттепели» во внутренней и внешней политике, реабилитации жертв репрессий; предпринял попытку модернизировать партийно-государственную систему, ограничить привилегии партийного и государственного аппарата, улучшить материальное положение и условия жизни населения. На 20-м (1956) и 22-м (1961) съездах КПСС выступил с резкой критикой так называемого культа личности и деятельности Сталина. Однако сохранение в стране однопартийного режима, подавление инакомыслия, расстрел рабочих демонстраций (Новочеркасск, 1962 и др.), произвол в отношении интеллигенции, вооруженная интервенция (в Венгрии, 1956 и др.), обострение военного противостояния с Западом (Берлинский (1961) и Карибский (1962) кризисы и др.), а также политическое и экономическое прожектёрство (призывы догнать и перегнать Америку, обещание построить коммунизм к 1980 году) делали его политику противоречивой и непоследовательной. Недовольство высшего государственного и партийного аппарата привело к смещению Хрущева со всех занимаемых постов в октябре 1964 года)» [10, с. 669—670].
Таубман У. (американский историк):
«Хрущев был соучастником сталинских деяний, его раздирали противоречия: что сделать со сталинским наследием и как реагировать на разведывательный полет американского У-2. Он оказался совершенно неспособен продумать политику в Берлине и на Кубе. Его взрывной характер и безрассудство часто шли ему во вред. Но в отличие от прочих сталинских помощников он все-таки сохранял человечность, по-своему заботился о благосостоянии народа и имел смелость идти на риск тогда, когда считал это правильным… То, что он предвидел более разумный тип международных отношений, является одним из его главных достижений» [23, с. 9—10].
Торчинов В. А., Монтюк А. М. (историки):
«Среди достижений эпохи Хрущева — запуск первого спутника (1957), а также спутника с первым в мире космонавтом Ю. А. Гагариным на борту (1961). Сельское население перестало быть «второсортным»: крестьяне получили паспорта (коих они, второстепенные граждане, не имели в сталинские времена); стал постепенно возрастать их жизненный уровень. Радикальными по своему характеру были реформы в пенсионном обеспечении и жилищном строительстве. Введение нового судебного законодательства и нового Уголовного кодекса можно в известном смысле рассматривать как шаг в направлении правового государства.
…В общественной памяти имя Хрущева оказалось накрепко связанным с кукурузной эпопеей. Между тем ветеран войны и труда В. А. Денисов из деревни Луговая Вирня Гомельской области говорит: «Самое крупное
«злодейство» сталинцы предъявляют Хрущеву за кукурузу. Ай, ай! Какое преступление! Легче Сталину простить миллионы загубленных лучших людей Отечества, уничтожение деревни, чем Н. С. Хрущеву кукурузу». В. А. Денисова поддерживает киевлянка И. М. Шитова, заканчивая свое письмо словами: «И не так уж Хрущев смешон, как кажется. Кукурузное поле лучше кладбища» [25, с. 522].
Хрущев С. (ученый):
«В первые месяцы 1964 года завязался узелок кризиса, который отцу, оказалось, не суждено было пережить. На сей раз события разворачивались не где-то вдали, а здесь, дома, в Москве. От отца решили избавиться.
Прошедшее десятилетие он посвятил попыткам наладить, запустить механизм централизованной экономики, отыскать и реально продемонстрировать его преимущества перед стихией, рынком. На решение именно этой задачи нацелены были многочисленные переходящие одна в другую реорганизации, упразднение одних ведомств и возникновение на их руинах других, борьба за сокращение разбухшего бюрократического аппарата, лишение реальных и мнимых привилегий. Вначале казалось, что дело сдвинулось с места, но вскоре все снова стало тормозиться, реформы то и дело застревали, натыкаясь на непреодолимые преграды. Окрики, поездки по стране, стремление вникнуть в тонкости не улучшали ситуацию.
Отец не понимал, в чем дело. Он нервничал, горячился, ссорился, искал виновных… и не находил… Происходили бесконечные перемещения из кресла в кресло… «Старик» своей непоследовательностью надоел всем… Аппарат жаждал спокойствия и стабильности… Все эти пересадки, перетряски сидели в печенках… Армия роптала на проведенные сокращения, в результате которых не только домой вернулись солдаты, но и остались без работы офицеры… Интеллигенция тоже потеряла веру в отца. Он ухитрился поссориться со многими своими сторонниками. Отец исчерпал себя. Его время истекло» [27, с. 601—602].
Хоскинг Дж. (английский историк):
«14 октября 1964 года состоялся пленум Центрального Комитета, на который Хрущева спешно доставили из Крыма, где он проводил свой отпуск. Речь была только одна. Ее произнес Суслов, и по сути она представляла собой обвинительный акт Хрущеву. Провалы его политики преувеличивались, в то время как успехи не упоминались вовсе. Суслов обвинил Хрущева в создании собственного «культа личности», в попытках быть специалистом по всем вопросам, в нескончаемых и бессмысленных реорганизациях, в опрометчивой и неосторожной внешней политике. Кажется, за него не вступился никто…
И все-таки Хрущев был в некоторых отношениях выдающимся государственным деятелем. Больше, чем любой из его коллег, он ощущал всю серьезность внутренних проблем, стоявших перед страной. Его попытки разрешить их отличались своенравностью, а подчас и грубостью. Более того, он сам не смог до конца освободиться от сталинских методов политики, какой бы сферы она ни касалась. Тем не менее он оставил страну в более процветающем состоянии, чем его предшественник. К тому же во многих отношениях она совершенно изменилась. Сам его уход символизировал произошедшие перемены. Один британский журналист написал тогда по этому поводу: «Десятью годами ранее и помыслить было невозможно, что преемник Сталина будет смещен со своего поста при помощи такой простой и мягкой процедуры, как голосование» [26, с. 349].
Рыжов К. (историк):
«Сопоставление судеб двух знаменитых российских правителей-реформаторов — Александра II и Никиты Сергеевича Хрущева — обнаруживает любопытные параллели в далеких друг от друга и, на первый взгляд, очень несхожих между собой исторических эпохах. Очевидно, за последние сто с небольшим лет российская государственность дважды проходила через важную критическую точку своего развития, когда громоздкая бюрократическая система становилась перед сложной проблемой кардинального самореформирования. Увы, в обоих случаях она оказалась не способна к глубокому обновлению. Преобразования Александра Второго Освободителя не спасли Российскую империю от страшного краха в 1917 году, так и хрущевские реформы не могли предотвратить развал советской системы в 1991—1993 гг.
…Он стал у руля государства в чрезвычайно сложный и ответственный момент: страну покрывали концлагеря, в которых томились сотни тысяч невинно осужденных людей, тяжелый кризис переживало сельское хозяйство (урожайность зерновых опустилась примерно до 8 центнеров с гектара), промышленность требовала технического перевооружения, население устало от бытовой неустроенности — люди нуждались в жилье и товарах народного потребления, остро стояла продовольственная проблема. Все эти вопросы требовали быстрого разрешения.
Едва придя к власти, Хрущев санкционировал работу специальных комиссий по пересмотру дел политзаключенных. Через несколько лет огромные концлагеря опустели. Он справедливо считал разоблачение культа личности и создание общества, построенного на гуманных правовых основах, своей главной исторической заслугой. Несмотря на многие его ошибки и заблуждения, следует признать, что он искренне желал советскому народу всевозможных благ.
Хрущев был первым из лидеров советской власти, который не только на словах, но и на деле обратился к нуждам трудящихся. Так, по его инициативе широко развернулось строительство жилых домов с малогабаритными, но отдельными семейными квартирами… При Сталине пенсии были настолько мизерными, что носили символический характер. Хрущев планомерно повышал пенсии и сделал их в конце концов настолько значительными, что на них стало возможно жить (вести скромное существование)» [19, с. 469—470].
Шикман А. (историк):
«Не являясь инициатором или организатором «Большого террора», Хрущев не выступал против него, никого не пытался защитить и подписывал расстрельные списки наряду со всеми. В 1938 году был избран кандидатом, а на следующий год — членом Политбюро... На параде Победы находился на трибуне Мавзолея с ближайшим сталинским окружением. В сентябре 1953 года стал Первым секретарем, положив начало новому процессу жизни советского общества, названному писателем И. Г. Эренбургом «оттепелью». В 1956 году на закрытом заседании XX съезда КПСС выступил с докладом «О культе личности и его последствиях». В нем не была предпринята даже попытка анализа системы, сделавшей возможным кровавый сталинский деспотизм, но преступления режима (голод в результате сталинской коллективизации, уничтожение военных кадров накануне войны, депортация народов и др.) стали достоянием общественности. Даже часть правды о сталинизме нанесла мощный удар по тоталитарной системе, заставив задуматься множество людей, положила начало массовой реабилитации, освобождению оставшихся в живых узников лагерей.
Искренне верящий в преимущество советской системы Хрущев стремился улучшить жизнь обычных граждан: в 1956 году был отменен антирабочий закон, запрещавший «самовольный» переход на другую работу, была повышена зарплата в государственном секторе, низкооплачиваемым категориям граждан был снижен пенсионный возраст и вдвое увеличены пенсии по старости.
…После хорошего урожая на целинных землях, давшего половину собранного в стране зерна, Хрущев встал на путь авантюристических административных и экономических реформ и кампаний. В 1957 году им был выдвинут лозунг «Догнать и перегнать Америку в производстве мяса и молочных продуктов в два-три раза», не имевший никаких реальных предпосылок для его выполнения и кончившийся полным провалом. Потерпела неудачу программа принудительного выращивания кукурузы, внедрявшаяся в регионах, заведомо для этого непригодных.
Над могилой Хрущева установлен чернобелый памятник работы скульптора Эрнста Неизвестного, символизирующий неоднозначность его правления» [28, с. 589—590, 592].
Крючков В. А. (бывший председатель КГБ СССР):
«После смерти Сталина к власти в нашей стране пришел Н. С. Хрущев. Он находился у руля до октября 1964 года. То есть одиннадцать с половиной лет. За это время он показал себя во всей «красе», оставил после себя такой след, о котором люди до сих пор говорят с большим знаком минус. Вред, причиненный Н. С. Хрущевым нашему Отечеству своим характером, своей бездарной, импульсивной деятельностью, исправить так просто оказалось невозможно. До сих пор в стране ощущаются негативные последствия от неуемной энергии этого человека без преувеличения буквально по всем направлениям жизнедеятельности государства и общества.
Иногда кажется, что судьба решила горько подшутить и после И. В. Сталина поставила у власти Н. С. Хрущева и тем оттенила неприглядности последнего, а именно: бездарность, никчемность, отрицательный тип человека, недостойную манеру поведения. И. В. Сталин и Н. С. Хрущев — это полные противоположности как личности, а также по результатам своей деятельности, практического курса, которого они придерживались. Как выразился наш публицист Юрий Белов, «Сталин и Хрущев — это величие и неопределенность».
Один (И. В. Сталин) закончил свой жизненный путь с большим плюсом, оставив после себя такие достижения и результаты, которыми мы гордимся до сих пор и которые нас как-то еще спасают. Другой же (Н. С. Хрущев) закончил свой путь с огромным минусом, с огромными издержками, которые не удается устранить до сих пор. И еще долго они будут давать о себе знать исключительно с негативной стороны.
…За одиннадцать с небольшим лет, что Хрущев находился у власти, он пустил под откос результаты борьбы и труда многих поколений российских граждан, в том числе и советских людей. Он причинил такой масштабный вред стране, который нам не только не удалось устранить, но который вошел в плоть нашего Отечества, болезненным образом давая о себе знать до сих пор. Н. С. Хрущева можно в полной мере отнести к политикам, для которых характерны демагогия, популизм, безответственные обещания, обман людей труда и непонимание принципиальных основ управления государством, тем более таким огромным и сложным, каким был Советский Союз» [14, с. 60—61].
Артизов А. А., Наумов В. П., Сигачев Ю. В. (историки-архивисты):
«Официальная советская историография долгие годы уверяла, что освобождение Хрущева от обязанности первого секретаря ЦК КПСС, председателя Совета Министров СССР и члена Президиума ЦК КПСС произошло на октябрьском (1964 г.) пленуме ЦК КПСС по просьбе самого Хрущева «в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья» после коллективного обсуждения вопроса о его «стиле и методах руководства». В действительности решение о снятии Хрущева предопределила группа лиц из партийно-государственного руководства СССР, заранее, на предшествовавших пленуму встречах и заседаниях Президиума ЦК КПСС, сговорившаяся против лидера страны.
Мировая реакция на снятие Хрущева волновала новое кремлевское руководство гораздо больше, нежели мнение собственного народа. Для внутреннего употребления годилась передовая «Правды» и специально устроенные партийные собрания, на которых строго в соответствии с полученными установками партийные секретари и пропагандисты разъясняли произошедшие изменения. Для друзей и коллег из социалистического лагеря и коммунистических партий, которые восприняли московскую новость как отказ от преодоления сталинизма (венгерских и итальянских товарищей это встревожило, китайских коммунистов, напротив, обрадовало и обнадёжило), пришлось организовать серию встреч в верхах. Послам и резидентам КГБ была разослана директива с указанием побеседовать с лидерами мирового коммунистического и социалистического движения. В этой директиве советские руководители постарались объяснить снятие Хрущева не столько объек- тивными, сколько субъективными обстоятельствами, всячески подчеркивая неизменность политического курса СССР. Дабы создать видимость беспристрастности, в директиве признавалось, что «т. Хрущев внес определенный вклад в разработку и осуществление коллективно выработанной генеральной линии нашей партии, принятой на XX, XXI и XXII съездах КПСС».
Последующие события, однако, подтвердили подозрения тех, кто сомневался в искренности подобных объяснений. Новое руководство страны отказалось от дальнейшей десталинизации общества. Это проявилось в небольшой вроде бы детали: у кремлевской стены установили бюст Сталина» [14, с. 5, 11—12].
Бушков А. (историк):
«Во всем, что касалось нормальной работы, Хрущев был бездарен и косорук. Профессиональный партаппаратчик, не более того. Вся его многолетняя «работа» — это старательное выполнение указаний свыше — и доведение их, в стремлении выслужиться, до полного абсурда. Как это было в период «большого террора», когда не кто иной, как Хрущев, стахановскими темпами перевыполнял план по арестам и расстрелам (свидетельств достаточно).
Реальным — промышленностью, транспортом, сельским хозяйством, наукой, разведкой — всегда занимались другие, кто угодно, но только не Хрущев. В Отечественную войну, будучи членом военных советов ряда фронтов, он прямо причастен к серьезнейшим провалам вроде Киевской катастрофы. Но вот язык у него всегда был хорошо подвешен» [5, с. 251].
Торбеев Г. И. (научный работник), Свечников П. Г. (секретарь Челябинского обкома КПРФ):
«В 1922 году Иосиф Виссарионович, по настоянию В. И. Ленина, был избран Генеральным секретарем ЦК партии, а в 1956 году на XX съезде партии, по прихоти Хрущева, произошло развенчание культа личности Сталина. Хрущев, сам того не понимая, нанес жестокий удар по Советской власти изнутри. Как теперь говорят, метил в Сталина — попал в Россию.
Хрущев не понимал, что в мировой истории Сталин — одна из самых значительных и масштабных фигур XX столетия — является фактически бичом Божьим, с помощью которого Бог наставлял человечество на путь истинный, несмотря на все прегрешения и нравственное падение народов. В Хрущеве удивительным образом сочетались честолюбие и пресмыкательство, жестокость и трусость, ограниченность и высокое самомнение. Именно Хрущев вместе с
Кагановичем и Молотовым поставил подпись под постановлением о разрушении Храма Христа Спасителя, и только Сталин не позволил им снести храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве.
Вместе с тем, будучи жестоким по отношению к другим, Хрущев сам был весьма труслив. Будучи членом Военного Совета армий ЮгоЗападного направления, сражающихся под Харьковом, в критический момент, когда немцы окружили наши войска, бросил фронт и бежал в Москву. Вызванный к Сталину, он утверждал, что выехал по вызову. После того как Сталин приказал арестовать и расстрелять Хрущева, тот бросился в ноги к вождю с криком: «Отец родной! Пощади! Я отслужу!» Присутствующий при этой сцене Молотов пожалел этого подонка и подтвердил Сталину, что это он вызвал Хрущева. (Напрасно пожалел. В 50-е годы Хрущев безжалостно разделался со своим спасителем, обвинив его в антипартийности.)
Тов. Сталин нередко называл в своем кругу Хрущева, с полным на то основанием, придурком. Хрущев абсолютно малограмотный человек. В 1920 году голосовал за троцкистскую платформу. Хрущев был ярым сторонником гонений на православную церковь» [24, с. 12—13, 515].
Прайсман Л., Зиссерман-Бродская Д., Чар-ный С. (историки):
«В. Ленин был решительным противником антисемитизма во всех его проявлениях и клеймил его как «гнусное раздувание расовых особенностей и национальной вражды». Он резко осуждал еврейские погромы и утверждал, что «только совсем темные и забитые люди могут верить лжи и клевете, распространяемых о евреях». Личное отношение Ленина к евреям было неизменно положительным, и ему даже принадлежали, по свидетельству современников (М. Горького), высказывания филосемитского характера: «Мы (русские) народ по преимуществу талантливый, но крайне ленивого ума. Русский умник почти всегда еврей или человек с примесью еврейской крови»…
В отличие от Ленина, И. Сталин уже в молодости отличался антисемитизмом. В статье «Лондонский съезд РСДРП» (1907 г.) он шутливо писал, что «меньшевики — еврейская фракция, большевики — истинно русская, стало быть, не мешало бы нам, большевикам, устроить в партии погром».
…Борьба с оппозицией в партии, в которую входили Л. Троцкий, Г. Зиновьев, Л. Каменев, Г. Сокольников, К. Радек, М. Лашевич и другие, способствовала нагнетанию антисемитских на- строений. Официальные партийные агитаторы, с явного одобрения И. Сталина и его окружения, не гнушались использовать на собраниях рабочих демагогические высказывания типа «во главе оппозиции стоят три недовольных еврейских интеллигента» и т. п. Массовые аресты 1936— 1939 гг. затронули многих старых большевиков, среди которых было значительное количество евреев.
...В 1944—1945 гг. государственный антисемитизм усиливался на всех уровнях. Инициатива антисемитской кампании исходила из высших эшелонов власти (во время войны Сталин позволял себе антисемитские высказывания)… Большинство исследователей и мемуаристов (включая дочь Сталина Светлану Аллилуеву) склонны считать, что в антиеврейской политике Сталина немаловажную роль сыграла также прогрессирующая годами юдофобия.
…Пиком послевоенного государственного террора, неотъемлемой частью которого была политика официального антисемитизма, стало «дело врачей»… Смерть Сталина 5 марта 1953 года спасла еврейское население СССР от усиливавшихся преследований и, возможно, от готовившейся депортации… В газетах перестали появляться антисемитские публикации.
…В 1961 году началась кампания борьбы с «хищениями социалистической собственности», носившая откровенно антисемитский характер. Суды выносили более жестокие приговоры, чем предполагало законодательство. 6 февраля 1962 года был принят указ, вводивший смертную казнь за взяточничество в особо крупных размерах. Подавляющее большинство подсудимых были евреями. Неоднократно во время процессов работники прокуратуры и судьи позволяли себе грубые антисемитские выпады. В газетах все чаще появлялись публикации, в которых откровенно прослеживались антисемитские мотивы.
Кампания проводилась по личному указанию Н. Хрущева, остановить ее не смогли даже многочисленные протесты западной общественности, в том числе известного английского ученого Б. Рассела. Одним из проявлений политики государственного антисемитизма стало также почти полное вытеснение евреев из высших эшелонов власти. Практически полностью были закрыты для евреев министерства иностранных дел и внешней торговли. В некоторые вузы (например, Московский государственный институт международных отношений) евреев вообще не принимали, в другие брали в соответствии с определенной процентной нормой. Личное от- ношение Хрущева во многом определяло политику советских властей в отношении евреев» [17, с. 336, 338, 556, 581, 589].
Артизов А. Н., Величанская Л. А., Казарина И. В., Прощуменщинов М. Ю., Таванец С. Д., Томилина Н. Г (историки-архивисты):
«Никита Сергеевич Хрущев… Одна из наиболее колоритных политических фигур XX столетия, которая до сих пор продолжает вызывать яростные политические споры — от тотального неприятия до восторженного прославления. Личность, неизменно приковывающая к себе внимание и не оставляющая равнодушными исследователей, журналистов, простых любителей истории. Человек невероятной энергии, политической мобильности, наделенный недюжинной деловой хваткой и политической смекалкой. И в то же время — ранимый, эмоционально-импульсивный, непредсказуемый. Перечислять различные, порой взаимоисключающие качества Хрущева можно долго, гораздо сложнее понять, как все это оказалось совмещенным в одном человеке…
Человек, который до 15 лет пас скот у помещика, а затем 9 лет проработал слесарем на рудниках Донбасса, на волне революционных преобразований очень скоро становится партийным лидером столицы первого в мире социалистического государства, а еще через пару десятилетий — вождем советского народа. Он был не просто талантливым самородком, но и умел учиться «на ходу», познавал премудрости партийной, государственной и политической жизни в процессе непосредственной практической деятельности. Будучи классическим продуктом советской системы, Хрущев в то же время пытался (где-то грубо и решительно, где-то наивно и примитивно) модернизировать ее, сделать более человечной. Он хотел накормить народ, дать ему новое жилье и обеспечить достойными зарплатами и пенсией, но при этом был убежден, что любое недовольство народа властью («родной, советской властью!») — это происки врагов, которые должны беспощадно (как, например, в Новочеркасске) подавляться.
По иронии судьбы возрожденное им могущество партийной номенклатуры очень скоро сыграло роковую роль в его собственной судьбе: большинство из тех, кто отправил Хрущева в отставку в октябре 1964 года, были его ставленниками и выдвиженцами» [3, с. 5—6].
Аксютин Ю. (историк):
«Хрущев оставил своим наследникам во многом другую страну по сравнению с той, что досталась ему и другим соратникам Сталина.
Несравненно возросла ее экономическая и особенно военная мощь. Определенные усилия были предприняты по модернизации инфраструктуры и управления. Покончено с массовыми и необоснованными репрессиями. Общество стало более стабильным. Был взят решительный курс на решение жилищной проблемы. Видоизменилась производственная проблема: ликвидирована нехватка хлеба и стали предприниматься меры (правда, безуспешные), чтобы удовлетворить спрос населения на масло, молоко и мясо. Колхозники получили возможность беспрепятственно покидать деревню и переселяться в город. Появился и стал быстро расти новый класс пенсионеров» [2, с. 599].
Карпов В. (писатель, историк):
«В годы учебы в Промакадемии втерся в окружение жены Сталина хитрый мужичок — секретарь партийной ячейки академии… Никита Хрущев. Аллилуева ввела его в свой дом. Веселый и пронырливый, Никита выглядел бесхитростным. Сталин запомнил его. После смерти жены, чувствуя за собой какую-то вину, Сталин поддерживал Хрущева как товарища Нади, выдвигал на должности районного и городского масштаба... Ну а Никита иногда развлекал гостей Сталина во время застолий на даче — плясал вприсядку с балалайкой и пел матерные частушки» [12, с. 115].
Суходеев В. (историк):
«На XXII съезде КПСС (1961) Н. С. Хрущев инициировал принятие съездом специального решения о нецелесообразности дальнейшего сохранения в Мавзолее саркофага с гробом И. В. Сталина. В ночь с 30 на 31 октября 1961 года гроб с телом И. В. Сталина был тайно захоронен в некрополе у кремлевской стены. В 1961 году все города, носящие имя Сталина, были переименованы, в том числе город-герой Сталинград. Имя Сталина было убрано из названий областей и предприятий, колхозов и институтов, поселков и улиц.
…Волюнтаристический удар Н. С. Хрущев наносил не по Сталину, а по социализму, марксизму-ленинизму, по существу, перечеркивал весь героический и трудный путь строительства социалистической цивилизации с ее победой над гитлеровским фашизмом. И тем самым положил начало перерождению партийных кадров, отрыву Коммунистической партии от народа, что в итоге привело к разрушению Советского Союза» [22, с. 595].
Веллер М. (писатель, философ):
«Когда товарищ Сталин умер, товарищ Берия изготовился вести страну по пути великих демократических реформ. Он был прекрасный администратор, умный и очень информированный человек. Он понимал, что страна движется к краху. Ресурсы страны исчерпаны, производительность труда очень низкая, и ехать дальше на рабском труде заключенных невозможно. Его коллеги тоже это понимали. Но они боялись, что Берия — на всякий случай, по традиции — расстреляет всех.
Хрущев воплотил многое из того, что начиналось еще Берией. А во многом пошел еще дальше. Он освободил крестьян от крепостной зависимости. При нем колхозники получили паспорта и пенсии. Ничтожные, 12-рублевые, но раньше они и этого не знали. При Хрущеве исчез жуткий страх перед арестом и исчезновением в ГУЛАГе. При Хрущеве люди не боялись рассказывать политические анекдоты. При Хрущеве люди переселялись в отдельные квартиры в массовом порядке.
Это он сократил сумасшедшие расходы на армию и направлял средства на жилищное строительство. Он был во многом человеком разумным. В той же армейской системе он порезал авиацию и надводные корабли: в этих видах мы все равно не могли конкурировать с американцами. Но он сделал ставку на ракеты и подводные лодки. И вот здесь мы с Америкой стали конкурировать. Это при Хрущеве Советский Союз стал сверхдержавой. Но власть не удержал. Недосмотрел за товарищами. Недооценил крайне низкий коэффициент полезного действия партийно-бюрократического аппарата, дегенерацию этого аппарата, который любое указание способен на выходе обратить в противоположное. Как результат — его убрали» [6].
Экштут С. (философ, историк):
«Я настаиваю на том, что хрущевский «миллион двести» стал одной из тех трагедий, которые наша страна пережила в ХХ веке, но и знаковым событием, разделившим отечествен- ную историю на периоды «до» и «после». Мои коллеги-историки говорят: Великая русская революция, Смута, голод 30-х годов, 37-й год — знаковые даты нашей истории, разумеется, называют Великую Отечественную войну. Все понятно. Но никто не вспоминает 1960-й год и «миллион двести», хотя хрущевское сокращение вооруженных сил имело длительные негативные последствия в большом времени истории, отголоски которого мы ощущаем по сию пору.
Именно тогда в Советской армии началась дедовщина. В обществе резко упал престиж офицерского звания. Власть оказалась неспособной не только обеспечить своим защитникам достойное существование, но и стала пачками выбрасывать боевых офицеров на улицу без куска хлеба!
Вот этот мощный сдвиг в социальной психологии, который начался после окончания войны, а окончательно сформировался и завершился после 1960 года, совершенно не зафиксирован и не изучен ни историками, ни психологами, ни социологами и абсолютно не осмыслен философами» [29, с. 308—309, 314].
Наш вывод. Наилучший лидер страны — тот, кто озабочен в первую очередь сбережением своего народа. В. И. Ленин, создатель советской системы тоталитарного государства, является одним из инициаторов и организаторов гражданской войны, в ходе которой погибло от 8 до 13 миллионов человек. Он несет также прямую ответственность за смерть от голода в 1921—1922 гг. 7 миллионов жителей Советской России. И. В. Сталин погубил в процессе коллективизации 10 миллионов крестьян, замучил, наверное, столько же невинных людей в тюрьме и концлагерях.
Так выразим же глубокую благодарность Н. С. Хрущеву, который вернул свободу узникам ленинско-сталинского ГУЛАГа и ослабил ужасные тиски тоталитарного режима.
Список литературы Место Н. С. Хрущева на пьедестале почета советских лидеров
- Аджубей А. Те десять лет / А. Аджубей. — М. : Советская Россия, 1989. — 336 с.
- Аксютин Ю. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953—1964 гг. / Ю. Аксютин. — М. : РОССПЭН, 2010. — 624 с.
- Артизов А. Н. Введение / А. Н. Артизов, Л. А. Величанская, И. В. Казарина, М. Ю. Прозуменщиков, С. Д. Таванец, Н. Г. Томилин // Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени. Документы. — М. : МФД, 2009. — 656 с.
- Артизов А. Н. Введение / А. Н. Артизов, В. П. Наумов, Ю. В. Сигачев // Никита Хрущев, 1964. Документы. — М. : Материк, 2007. — 752 с.
- Бушков А. Сталин. Красный монарх / А. Бушков. — М. : Олма-Медиа-групп, 2007. — 622 с.
- Веллер М. Доза правды / М. Веллер // Аргументы и факты. — 2016. — 24 февраля.
- Верт А. История Советского государства. 1900—1991 / А. Верт. — М. : Прогресс, 1992. — 480 с.
- Волкогонов Д. А. Семь вождей : в 2 кн. / Д. А. Волкогонов. — М. : Новости, 1995. — Кн. 1. — 475 с.
- Воронов Г. От «оттепели» до застоя / Г. Воронов // Никита Сергеевич Хрущев. Материалы к биографии. — М. : Политиздат, 1989. — 367 с.
- Горкин А. П. История, люди, регионы России / А. П. Горкин, В. М. Карев. — М. : Большая российская энциклопедия, 1999. — 799 с.
- Каганович Л. М. Памятные записки / Л. М. Каганович. — М. : Варгиус, 1997. — 572 с.
- Карпов В. Генералиссимус / В. Карпов. — М. : Вече, 2011. — 464 с.
- Коржавин Н. Истоки и психология исторической задержки / Н. Коржавин // Погружение в трясину (анатомия застоя). — М. : Прогресс, 1991. — 704 с.
- Крючков В. А. Личность и власть / В. А. Крючков. — М. : Просвещение, 2004. — 383 с.
- Медведев Р. Неизвестный Сталин / Р. Медведев, Ж. Медведев. — М. : Время, 2011. — 496 с.
- Микоян А. Так было. Размышления о минувшем / А. Микоян. — М. : Вагриус, 1999. — 637 с.
- Прайсман Л. История евреев в России / Л. Прайсман, Д. Зирерман-Бродская, С. Чарный. — М. : Федерация еврейских общин России, 2007. — 725 с.
- Розенталь М. М. Философский словарь / М. М. Розенталь, П. Фюдин. — М. : Политиздат, 1963. — 544 с.
- Рыжов К. Сто великих россиян / К. Рыжов. — М. : Вече, 2002. — 655 с.
- Солженицын А. Малое собрание сочинений : в 7 т. / А. Солженицын. — М. : Инком Н. В., 1991. — Т. 7. — 383 с.
- Софронов А. В. К новым рубежам / А. В. Софронов // Огонек. — 1961. — 22 января.
- Суходеев В. Сталин. Энциклопедия / В. Суходеев. — М. : Алгоритм, 2014. — 639 с.
- Таубман У. Предисловие к американскому изданию / У. Tаубман // Хрущев С. Рождение сверхдержавы. Книга об отце. — М. : Время, 2000. — 639 с.
- Торбеев Г. И. Сталин: правда и вымыслы / Г. И. Торбеев, П. Г. Свечников. — Челябинск, 2007. — 605 с.
- Торчинов В. А. Вокруг Сталина. Историко-биографический справочник / В. А. Торчинов, А. М. Леонтюк. — СПб. : Филологический факультет Санкт-Петербургского университета, 2000. — 606 с.
- Хоскинг Дж. История Советского Союза. 1917—1991 / Дж. Хоскинг. — Смоленск : Русич, 2000. — 496 с.
- Хрущев С. Рождение сверхдержавы. Книга об отце / С. Хрущев. — М. : Время, 2000. — 639 с.
- Шикман А. Кто есть кто в российской истории / А. Шикман. — М. : Вагриус, 2003. — 655 с.
- Экштут С. Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас? / С. Экштут. — М. : Кучково поле, 2017. — 336 с.