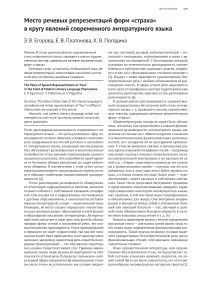Место речевых репрезентаций форм «страха» в кругу явлений современного литературного языка
Автор: Егорова Элеанора Валериевна, Платонова Елена Владимировна, Погодина Ксения Владимировна
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (7), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается художественный стиль литературного языка, проводится анализ художественных текстов, содержащих речевые репрезентации форм «страха».
Устная речь, литературный язык, речевые репрезентации, межстилевая синонимия, синтаксические построения, жанровые градации
Короткий адрес: https://sciup.org/14219358
IDR: 14219358
Текст научной статьи Место речевых репрезентаций форм «страха» в кругу явлений современного литературного языка
Устно-разговорная разновидность современного литературного языка — это речь различных сфер повседневного устного общения основного конгломерата современных носителей русского и английского литературного языка, владеющих им как родным. Она обслуживает разнообразные и многочисленные потребности устно-речевой коммуникации данного языкового коллектива. Эти потребности простираются от бытового обмена репликами до задач публичного общения. В соответствии с этим устно-разговорная разновидность неоднородна по своему составу и обладает свойствами множественной градуиро-ванности [4].
Устно-разговорная разновидность обнаруживает отчетливую определённость в качестве самостоятельного объекта с собственной языковой спецификой. Она находится в определённых соотношениях с другими образованиями, в совокупности составляющими литературный, а шире — национальный язык. Очевидно, её место следует определить относительно двух основных рядов: образований устной формы и образований письменно-литературных. Литературный язык предстает в виде двух плоскостей, обозначающих сферы устной и письменной речи; эти плоскости взаимно проецируются. Такое проецирование в принципе не знает ограничений, так как всё письменное может быть произнесено и всё произносимое записано (например, диалектная речь может быть передана транскрипцией — это обозначено пунктирами), однако существует некий узус. Границы национального языка шире границ литературного за счёт плоскости устной речи. В пределах письменно-литературной сферы выделяются функциональные стили (их число точно не установлено; мы условно выделя- ем три: научный, деловой, публицистический — последний с оговорками, возникающими в связи с результатами исследования В. Г. Костомарова, который, указывая на генетическую разнородность употребляемых в публицистике языковых средств, говорит не о стиле, но о «функционально-стилевом единстве») [3]. Наряду с ними выделяется художественно-беллетристическая речь с особым обозначением её разговорного пласта. В сфере устной речи выделяются (если идти от периферии к центру) территориальные диалекты, просторечие, жаргоны, устно-разговорная разновидность [4].
В данной работе рассматривается художественный (художественно-беллетрический) стиль литературного языка, т. к. проводится анализ художественных текстов, содержащих речевые репрезентации форм «страха».
Общелитературная основа не может быть обозначена, поскольку она представлена в каждой функциональной разновидности литературного языка; выделение её связано не с общим вопросом о наличии и взаимоотношениях функциональных разновидностей, но с вопросом об их внутренней организации. С этим же вопросом связано и вычленение разных ярусов языковой специфики стилей — например, она может касаться лексико-семантического состава синтаксической конструкции и не касаться её самой (ср.: «Страх» существует независимо от культуры и уровня развития народа — научный; как от него избавится, если в моих ушах вечно будет звучать его крик, а в глазах стоять его лицо! Какой ужас! — художественный), может касаться и собственно синтаксиса. Сами стили допускают внутренние градации и представлены многочисленными жанрами, характеризующимися некоторой совокупностью языковых приёмов, в той или иной мере клишированных и обязательных для жанра. Они внутренне неоднородны и находятся между собой в отношениях большей или меньшей близости — так, научный и деловой стили обнаруживают большую общность в составе своих языковых показателей и т. д. [6]
Наконец, правомерен вопрос о чётком определении признаков стиля — для наших целей важно лишь то, что перед нами определенная функциональная разновидность. Такой подход позволил условно выделить художественно-беллетристическую речь среди функциональных стилей, хотя реальное положение значительно сложнее.
Язык художественной литературы, или художе-ственно-беллетрический стиль, не представляет собой системы языковых явлений, напротив, он лишён какой бы то ни было замкнутости, его отличает разнообразие индивидуально-авторских средств [2].
В анализируемых художественных текстах, содержащих речевые репрезентации форм «страха», встречаются слова и синтаксические структуры не только разговорного стиля ( безумная, big scaredy-cat ), но также и публицистического ( голос гения музыки, to take the plunge ).
Таким образом, перед нами сложная система не из двух, а из большего количества подсистем. Соответствия между ними не однозначные, а более сложные. Литературный язык в целом предстает как некий сложный конгломерат различных по функциям и по форме осуществления образований [4].
Единство литературного языка обеспечивается и наличием общих для всех функциональных образований средств, и возможностями межстилевой синонимии, благодаря которой создаются ряды средств, допускающих синонимическое замещение. Конечно, далеко не все языковые средства, свойственные данному стилю, участвуют в построении таких рядов. Но если внутристилевая синонимия захватывает средства, расположенные на периферии тематического цикла, то межстилевая синонимия, напротив, включает наиболее характерные (но, видимо, не все). Изучение возникающих при этом рядов означает конкретное исследование вопроса о перево-димости со стиля на стиль.
В анализируемых текстах, содержащих речевые репрезентации форм «страха», примерами межстилевой синонимии могут служить — « нотная запись », « a navy-blue school regulation », « surfers ».
Оппозиции, выделяемые О. Б. Сиротининой [7], конечно, верны и отражают реальную языковую действительность. Но они гетерогенны (так, оппозиция монологической и диалогической речи не относится к вопросу о составе литературного языка; «бытовой — нейтральный — книжный» — оппозиция стилистического, а не стилевого плана). Более однородны оппозиции Б. Н. Головина. Они могут быть представлены, исключая частности, а также оппозицию монологической и диалогической речи, которую он тоже называет и которая, конечно, может быть занесена на схему в виде особой пометы. [4]
Если обратиться к устно-разговорной разновидности, то можно заметить, что она входит в число образований современного русского национального языка, употребляющихся только в устной форме, и располагается между непосредственной проекцией письменно-литературных явлений на сферу устной речи (т. е. чтение написанного) и просторечием. Таким образом, устно-разговорная разновидность — не стиль уже потому, что стилевая дифференциация осуществляется лишь в пределах верхней плоскости (например, просторечные элементы лишь тогда получают стилевую значимость, когда используются в этой плоскости). Внутри её существуют градации. Вся она направлена на обслуживание нужд широко понимаемой повседневной речевой практики общества. Каждый говорящий на литературном языке может находиться в любой точке устно-разговорной разновидности в зависимости от экстралингвистических условий. Что касается наиболее частотных типизиро- ванных синтаксических построений, то они бывают двух родов в зависимости от того, охватывают ли они всю устно-разговорную разновидность или её часть. Внутренние жанровые градации устно-разговорной разновидности определяются ситуационно-тематическим фактором [1]. В сфере письменной речи межстилевая дифференциация средств выражения облегчена особенностями этой формы речи (возможностью обдумывания и сознательного, точного выбора); в сфере устной речи её особенности простираются на любые её жанры и разновидности, которые различаются между собой по другому признаку — по степени концентрации тех или иных её специфических средств [4].
Устно-разговорная речь представлена в анализируемых нами художественных текстах, содержащих речевые репрезентации форм «страха», т. к. говорящий описывает ситуацию, в которой он испытывал «страх». Внутренние жанровые градации в данном случае определяются наличием «страха» в описываемой ситуации. В представленных примерах велика концентрация кратких повествовательных предложений: « Итак, я попала в руки сумасшедшего! Что со мной будет? »; « Я вошла. Мне показалось, что я попала в склеп » [5]; « I consider just explaining my fears to this man » [8]. Также много предложений, описывающих ситуацию и обстановку в момент, когда говорящий испытывал страх: «Стены были обиты черной тканью , только вместо белых крапинок, обычно украшающих траурный креп , на ней были начертаны пять нотных линеек — нотная запись „Dies irae“ („День гне-ва“)» [5]; «The screaming kids merged into one hysterical wail in my waterlogged ears ». [8] Анализируемые художественные тексты характеризуются многообразием абстрактных и конкретных существительных: « чудовищное уродство », « giant foot », наличие которых наглядно показано в словарях вербальных и невербальных проявлений «страха».
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что речевые репрезентации форм «страха» занимают значительное место в кругу явлений современного литературного языка. Речевые репрезентации форм «страха», рассматриваемые в анализируемых художественных текстах, относятся к художественно-белле-трическому стилю. В предложенных примерах содержатся слова и синтаксические конструкции не только художественного языка, но также устно-разговорного и публицистического стилей. Речевые репрезентации форм «страха», содержащиеся в анализируемых художественных текстах, характеризуются наличием межстилевой синонимии. В представленных примерах велика концентрация кратких повествовательных предложений, а также предложений, описывающих ситуацию и обстановку в момент, когда говорящий испытывал страх. Анализируемые художественные тексты характеризуются многообразием абстрактных и конкретных существительных, наличие которых наглядно показано в словарях вербальных и невербальных проявлений «страха».
Список литературы Место речевых репрезентаций форм «страха» в кругу явлений современного литературного языка
- Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. М., 1967.
- Голуб И.Б. Стилистика русского языка. М., 1997
- Костомаров В.Г. Некоторые особенности языка печати как средства массовой коммуникации. М., 1971.
- Лаптева О.А. Русский разговорный синтаксис. М., 2003.
- Леру Г. Призрак Оперы: Роман. М., 2004.
- Петрищева Е.Ф. Стиль и стилистические средства.//Стилистические исследования (на материале совр. рус. языка). М., 1972.
- Сиротинина О.Б. Современная разговорная речь и ее особенности. М., 1974.
- McCrossan L. Water Wings. London, 2005.