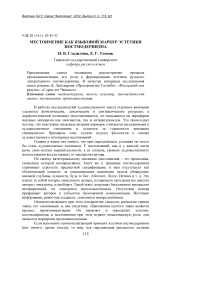Местоимение как языковой маркер эстетики постмодернизма
Автор: Гладилина Ирина Владимировна, Усовик Елена Григорьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 3, 2012 года.
Бесплатный доступ
Предлагаемая статья посвящена рассмотрению процесса прономинализации, его роли в формировании эстетики русского литературного постмодернизма. В качестве материала исследования взяты романы Д. Липскерова «Пространство Готлиба», «Последний сон разума». «Сорок лет Чанчжоэ».
Постмодернизм, текст, симулякр, лингвистический анализ, местоимение, прономинализация
Короткий адрес: https://sciup.org/146120988
IDR: 146120988 | УДК: 821.161.1:18+81’42
Текст научной статьи Местоимение как языковой маркер эстетики постмодернизма
В работах исследователей художественного текста огромное внимание уделяется фонетическим, лексическим и синтаксическим ресурсам, а морфологический потенциал недооценивается, он оказывается на периферии научных интересов как лингвистов, так и литературоведов. Это происходит потому, что некоторые языковые явления априорно считаются малоценными в художественном отношении и остаются за горизонтом внимания специалистов. Примером тому служит подход филологов к оценке художественного потенциала местоимений.
Однако в языке нет ничего, что при определённых условиях не могло бы стать художественно значимым. У местоимений, как и у каждой части речи, свои истоки выразительности, а ее степень, уровень художественного использования всегда зависит от мастерства автора.
По своему категориальному значению местоимения – это прономика, семантика которой неопределённа. Текст же в традиции постмодернизма утрачивает строгость предметной спецификации, в нем отсутствует всё объясняющий концепт: за описываемыми явлениями нельзя обнаружить никакой глубины, сущности, будь то Бог, Абсолют, Логос, Истина и т. д. Это влечет за собой потерю смыслового центра, создающего пространство диалога автора с читателем, и наоборот. Такой текст допускает бесконечное множество интерпретаций, он становится многосмысленным. Отсутствие центра превращает авторов в субъектов бесконечной коммуникации. Источник информации, равно как и адресат, становится неопределённым.
Основополагающим при этом плюрализме смыслов, размытии границ знака, его элиминации и, как следствие, образовании пустого знака является процесс прономинализации. Он выявляет и определяет эстетику постмодернизма, и местоимения при этом играют немаловажную роль: они являются маркерами прономинализации.
Если вспомнить основополагающий принцип эстетики постмодернизма (нет ничего, кроме текста), то мир, вся окружающая реальность должны восприниматься с точки зрения постмодернизма как один большой текст со множеством его интерпретаций. Исследователь постмодернизма И. Ильин пишет: «...постмодернистская мысль пришла к заключению, что все, принимаемое за действительность, на самом деле не что иное, как представление о ней, зависящее к тому же от точки зрения, которую выбирает наблюдатель и смена которой ведет к кардинальному изменению самого представления. Таким образом, восприятие человека объявляется обреченным на "мультиперспективизм": на постоянно и калейдоскопически меняющийся ряд ракурсов действительности, в своем мелькании не дающих возможность познать ее сущность» [1, с. 128].
Таким образом, мир для постмодерна выступает как текст. Сам же постмодернистский текст в широком смысле выступает как одно большое местоимение, живет и существует по его законам, сиюминутно наполняясь смыслами и меняясь в зависимости от точки зрения читателя.
Так же, как и местоимение, он может обозначать множество различных предметов, хотя и имеет одну знаковую оболочку, приобретая в зависимости от точки зрения читателя, которую он может менять в процессе чтения, различные интерпретации. Поэтому мир и воспринимается как текст: одна и та же действительность, но для каждого она своя.
Центральной категорией эстетики постомодернизма является симулякр – знак, имеющий только план выражения, но не отсылающий к конкретному референту, т. е. это знак с пустой референцией. Актуализация его значения может быть осуществлена лишь в ходе коммуникации от адресанта к адресату (адресатам). Это означает, что симулякр может обрести свой смысл в том случае, если отдельные ассоциативные и коннотативные его аспекты, имплицитно заложенные в нем адресантом, будут актуализованы воедино в восприятии адресата.
Фундаментальным свойством симулякра в связи с этим выступает его принципиальная несоотнесенность и несоотносимость с какой бы то ни было реальностью.
Таким образом, коммуникация, осуществляющаяся посредством симулякра, основана не на совмещении семантически постоянных понятийных полей участников коммуникации, но на кооперации неустойчивых и сиюминутных семантических ассоциаций коммуникативных партнеров.
Такими симулякрами, т. е. знаками с пустой референцией, являются в текстах Д. Липскерова многие понятия, которые в ходе этой коммуникации-игры теряют свой смысл, ранее в культурной традиции не подвергающийся сомнению: истина, пространство, время, смерть, боль, страх, язык и др.
Часто эти симулякры раскрываются для восприятия читателя через их номинацию местоимениями. Более того, симулякры становятся прономиной (дейктической единицей) и соотносятся с местоимениями в тексте и в сознании читателя, при этом выполняя две функции:
-
1. указательную (происходит отсылка к предшествующему контекстуальному детерминизму и реализму);
-
2. анафорическую (отсылка к другим симулякрам).
Происходит же это соотнесение благодаря процессу прономинализации: границы слова (денотат и сигнификат) в сознании читателя начинают размываться. Таким образом, получается дейксис. При этом данная дейктическая единица в тексте начинает сиюминутно наполняться ассоциациями участников коммуникации. При соотношении же с предшествующими традициями дейксис становится симулякром.
Отсутствие референции как раз и является основополагающим при этом процессе. Понятия переходят одно в другое и живут именно в «моем» восприятии, в восприятии «Я-субъекта» и «Я-объекта», осмысливающего себя со стороны. Постмодернизм рассматривает человека как особую языковую личность, субъекта, «Я», которое можно реконструировать на основе анализа порожденных ею текстов.
Фигура «Другого», партнера по коммуникации, оказывается конституирующе значимой. В целом «Я» не есть онтологическая данность, но конституируется лишь в качестве отношения с «Ты». Именно «опыт Ты» как последовательное восхождение к открытости общения вплоть до признания «Другого» равным участником диалога и как основа «открытости и свободного перетекания Я в Ты» (Гадамер) [2, с.444.] является основополагающим для становления подлинного «Я». В постмодернизме же этим «Другим» становится «Я-объект» – расщепленное на субъект и объект «Я». И способ бытия есть, согласно Сартру, «быть увиденным Другим» [7, с. 291]. В свою очередь, эта соотнесенность двойственна в силу двойственности особых основных слов, которые на самом деле представляют собой пары слов: одно основное слово – сочетание «Я–Ты», другое основное слово – сочетание «Я–Оно», причем на место «Оно» может встать «Он» и «Она».
Таким образом, происходит расщепление субъекта «Я» на «я» и «он». Постмодернистскому субъекту свойственно оценивать себя со стороны, т. е. сознание оценивает себя субъективно – извне и объективно – снаружи.
Местоимение Я , являющееся выразителем субъективности, как раз и стоит в центре всего ряда местоимений. Оно означает лицо, к которому так или иначе обращено все другое: Я – это лицо, непосредственно воспринимающее, познающее, действующее, оценивающее и мысленно или реально концентрирующее вокруг себя все окружающее: Я ставит себя в центр и наглядно демонстрирует «человекоцентризм». Я – источник знания: знаю я, говорящий, сообщающий, а не ты и не он. Для этих местоимений характерна функция обобщения: в меньшей степени для Я , в большей – для ТЫ, ОН , а также для САМ, СЕБЯ.
Мир и все, что связано с ним и окружает человека, выступает как одна большая прономина со множеством ее интерпретаций, которые зависят от точки зрения читателя.
И процесс прономинализация выступает как раз как основной конструкт этой философии, как основа эстетической парадигмы этого литературного течения. Основным же признаком данного процесса является ослабление или даже полная утрата конкретного значения и приобретение словами других частей речи местоименного (дейктического) значения.
Пространство – грамматическая категория, значения которой характеризуют пространственную отнесенность ситуации (пространственную референцию), а время – временную отнесенность (временную референцию) ситуации, описываемой предложением.
Данные понятия (пространство и время) также подвергаются в текстах Д. Липскерова процессу прономинализации и являются симулякрами.
Этот процесс ярко прослеживается на примере «Пространства Готлиба». Данный роман написан в эпистолярном жанре: двое калек, познакомившиеся в санатории во время лечения, начинают вести переписку. Анна Веллер и Евгений Молокан – парализованные люди, которые познают мир в основном через окно, дверь, телевизор – подобие окна.
Уже сам эпистолярный жанр подразумевает сосредоточение личных местоимений, так как повествование в письме ведется от 1-го лица («Я-субъект», «Я-объект»). Однако на протяжении всего романа адресантом письма является ВЫ .
Внешне ВЫ – уважительная форма обращения, но ВЫ по отношению к Я выражает также «все», что «не я» («вас» много), то есть формируется оппозиция «моё» пространство и «ваше». Внешний же мир – мир за окном, дверью: «Прохожие под моими окнами ходят всё более праздные… Мне нравится, что у них веселые лица, что они с хорошим настроением… А ещё они кушают питу…» [4, с. 21] (выделено нами – И. Г ., Е. У .) .
Граница (окно) отделяет «меня» от «них», «мой» мир от «их» мира.
В лингвистике существует термин социальный дейксис, иногда используемый в исследованиях категории вежливости в разных странах. В русском языке выбор между местоимениями 2-го лица ед.ч. ты и Вы обусловлен, в частности, относительным социальным статусом говорящего и адресата.
В начале произведения использование уважительной формы «Вы» маркировано именно социальным статусом (малое знакомство субъектов речи), в конце же произведения это обращение перестает быть обусловленным.
Таким образом, по отношению к каждому из двух адресантов вырисовывается «тройное» пространство (на уровне мест), причем ВЫ , 2 лицо, – нечто среднее между Я – 1 лицо и ОНИ – 3 лицо.
«Ваш» мир похож на «мой», но «чужой» мне. Поэтому используется и такое большое количество притяжательных местоимений: принадлежащее «мне», «вам», «им», т. е. «мой», «твой», «их».
В знаковом же отношении ВЫ можно рассмотреть как границу между Я и ОНИ . В данном произведении «вы» является подобием окна в «их» (= «они», т. е. «чужой») мир, который соединяет «я» и «они».
Вспомним сюжет «Пространства Готлиба»: Анна Веллер и Евгений Молокан в прошлом не являлись калеками. В силу «мистических», в чем-то комических обстоятельств, обусловленных борьбой государства против иноземной «Метрической системы», они лишились возможности передвигаться, т. е. стали калеками. При этом стало парализованным не только их тело но, и вся их жизнь. Поэтому для каждого из них ВЫ является своего рода окном из «они» в «я», то есть своеобразной границей между Я и ОНИ .
Герои, общаясь друг с другом посредством писем, не только смотрят в это окно «вы», слушая и переживая снова свою историю, но и находятся в это время то вместе с «вы» (и живет его жизнью), то в своем прошлом (при этом являясь этим же «вы», но для другого участника коммуникации), то вообще становятся тем самым «они», когда в конце романа оказывается, что Евгений Молокан – настоящее имя Готлиб – это совершенно здоровый человек, к которому случайно попало письмо Анны.
Понятие пространства оказывается, таким образом, также неоднозначным, знаком с пустой референцией, ведь все, что рассказывал Анне Евгений – это ложь, все, что окружало ее – полнейшая мистификация. Да и было ли все это? Да и жила ли она сама? И становится непонятным, сон это или явь. И возникает ощущение: может, и вся жизнь – это сон…
Процесс прономинализации размывает границы данного понятия, элиминирует его, и пространство становится в тексте симулякром, местоимения же являются своего рода границей между разными мирами: «своим» и «чужим» пространством.
Пространство в литературных произведениях неотъемлемо связано с понятием времени, которое, в свою очередь, также оказывается далеко неоднозначным, подвергнутым процессу прономинализации.
В произведении «Пространство Готлиба» показательным является также то, что и Евгений и Анна, читая историю друг друга и одновременно переживая ее, вновь переходят из прошлого состояния, когда были как «они», в настоящее («я») через границу «вы» (другие люди). Этот переход длится на протяжении всего текста, и невозможно уловить момент, когда он закончится. Вся жизнь героев размыта во времени: в каждом из моментов жизни прошлое и настоящее перемешиваются, время перестает быть линейным, оно становится симулякром, знаком с пустой референцией.
Возникает вопрос: что же станет с человечеством, ведь таких, как Анна и Евгений, много, они лишь часть огромной цивилизации, несущейся вперед, никем не управляемой, но и никем в целом не воспринимаемой. Между человеком и человечеством становится все меньше общего, так что смысла лишается сама корневая связь этих двух слов.
Немаловажной в этом аспекте становится категория Смерти, переосмысленная и явившаяся в новом понимании. Точкой «вненаходимости», в которой обретаются автор, герои, читатель постмодернизма, – неизменно оказывалась смерть.
В романе «Последний сон разума» Д. Липскерова главным действующим лицом как раз и обозначена смерть. Большинство исследователей исходит из того, что родовым признаком человека является сознание, следовательно, смерть – это смерть сознания. Таким образом, смерть в постмодернизме выступает как тотальная аннигиляция совокупности составляющих: «Тараканье тело татарина распалось на атомы и превратилось в ничто. Ничто – это бесконечная малость» [3]. «Ведь если существуют штуки меньше атома, то существует что-то и меньше этих штук... Если взять секунду и разделить ее на тысячу, то получится одна тысячная секунды. А если разделить на миллиард, то одна миллиардная... Что же это получается? – подумал Шаллер, чувствуя, что подобрался к чему-то важному. – Следовательно, секунда времени может делиться без конца, как и преумножаться. Значит, последнее мгновение жизни человека длится бесконечно... Так что же получается – человек бессмертен в своем последнем мгновении? Значит, человек бессмертен в бесконечно малой величине! Но бессмертен!.. – Генрих зажмурился от своего открытия» [5].
Главным героем романа Д. Липскерова «Последний сон разума» изображен стареющий татарин, продавец рыбы Илья Ильясов. Жизнь, а точнее длящаяся смерть Ильясова, сюрреалистически переплетающаяся с жизнями и смертями двух десятков других персонажей и, главное, с троекратной смертью предмета своей любви, девушки Айзы, собственно, и составляет ткань повествования. Но, как мы уже заметили, центральная фигура текста – смерть. Но не просто смерть, а некое длящееся состояние между жизнью и смертью. Смерть же понимается Д. Липскеровым не как состояние «ничто», тотального небытия, а как радикальная метаморфоза до качественно иного состояния: возлюбленные Айза и Илья неоднократно переходят из одной формы жизни в другую. Илья превращался в рыбу, голубя, таракана; автор называет его по имени, по национальности (татарин), но неизменным и постоянно повторяющимся остается только местоимение ОН . Данное местоимение выступает в качестве знака со множеством означаемых, которые постоянно меняются, создавая при этом игру смыслов.
«Она же (Айза) была экзотической рыбой, птичкой (колибри), стрекозой» [3]. Местоимения в данном случае выполняют важную для постмодерна анафорическую функцию: они отсылают к предмету, который не может быть явлен здесь и сейчас. Антенцендентом анафорической связи здесь является местоимение ОНА (Айза). Тогда рыбка (гуппи), птичка (колибри), стрекоза будут являться в данном контексте кореферентными относительно данного референта. И только местоимение в тексте отсылает именно к этому субъекту. При этом существительное Айза будет являться в тексте данного произведения симулякром. Он в этом контексте определяется в качестве «точной копии, оригинал которой никогда не существовал» [6, с. 737].
В этом своем качестве симулякр служит особым средством общения, основанном на реконструировании в ходе коммуникации вербальных партнеров сугубо коннотативных смыслов высказывания. Поэтому любая идентичность в системе отсчета постмодерна невозможна, так как невозможна финальная идентификация, ведь понятия в принципе не соотносимы с реальностью. И, пожалуй, только местоимения выполняют в постмодернизме данную (анафорическую) функцию, т.к. большинство понятий являются в текстах данного направления размытыми.
В конце же произведения происходит игра с самими местоимениями: ОН и ОНА меняются местами, то есть и все, что происходит с Ильей и Айзой, тоже может поменяться местами. Следовательно, и означаемое местоимения ОН может поменяться с означаемым местоимения ОНА .
Таким образом, мы воспринимаем означаемое, но означающее от нас удалено и сокрыто. При помощи местоимений происходит в сознании читателя отсылка к симулякрам.
Процесс прономинализации, репрезентированный на поверхности текста частотным употреблением местоимений, помогает раскрытию одного из основных принципов постмодернизма: текст не отображает реальность, а творит новую реальность, вернее, даже много реальностей, часто вовсе не зависимых друг от друга.