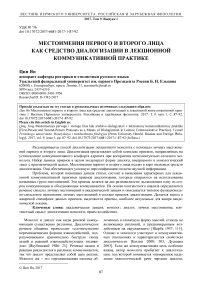Местоимения первого и второго лица как средство диалогизации в лекционной коммуникативной практике
Автор: Ян Цин
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 1 т.9, 2017 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается способ диалогизации лекционного монолога с помощью личных местоимений первого и второго лица. Диалогизация представляет собой комплекс приемов, направленных на установление коммуникативного комфорта адресата при восприятии интеллектуально сложного монолога. Набор данных приемов в целом моделирует форму диалога, внедряемого в монологический текст с прагматической целью. Местоимения первого и второго лица входят в ядро языковых средств диалогизации. Они обеспечивают условную персонификацию подачи научной информации. Проблема, которой посвящена данная статья, состоит в выявлении характерных для лекционной коммуникативной практики приемов диалогизации, которые опираются на использование названных групп местоимений. Эти приемы делятся на две разновидности: выделяющие одну из сторон коммуникации и объединяющие коммуникантов. На основе контекстного анализа определяются речевые смыслы личных местоимений в академической лекции и описывается типовое функционально-смысловое наполнение личных местоимений в составе приемов диалогизации. Делается вывод о жанровой специфике данных приемов, выделяются приемы, наиболее актуальные для жанра академической лекции.
Академическая лекция, монолог, диалог, личное местоимение, контекстный смысл, диалогизация монолога, прием воздействия
Короткий адрес: https://sciup.org/14729500
IDR: 14729500 | УДК: 81''36 | DOI: 10.17072/2037-6681-2017-1-87-92
Текст научной статьи Местоимения первого и второго лица как средство диалогизации в лекционной коммуникативной практике
экспликация речевого взаимодействия коммуникантов во время монологического речевого общения» [Матвеева 2010: 89–90]. Данная имитация диалогических действий воспроизводит модель гармоничного общения коммуникантов.
Диалогизация как система открытых приемов выражения диалогичности в монологе включает в себя такие приемы: 1) словесное выражение я -позиции, вы -позиции и субъектно совмещенной мы- позиции коммуникантов; 2) побудительные конструкции; 3) прямое обращение к адресату текста. Реже в составе монолога встречается прямая имитация диалогической речи [Богомолов 1987; Жуланова 2002].
Диалогизация лекции – повсеместное явление, диалогичность входит в число жанрообразующих признаков данного типа речевых произведений. Лекция как жанр характеризуется передачей адресату интеллектуальной информации в процессе прямой, непосредственной коммуникации с аудиторией. Объективными интегрирующими признаками коммуникативного события лекции являются спланированность, институци-ональность, публичность, устная форма предъявления адресату [Васильева 1976; Куприна 1998]. Для лекции характерны стандартные стратегии и тактики, строгий контроль речевого поведения и жесткая заданность темы [Борисова 2005: 44]. Диалогичность данного монолога обусловлена нацеленностью лектора не только на информирование, но и на воздействие, логическое и психологическое приобщение адресата к освоению материала лекции.
Письменный текст лекции не полностью отражает реализацию коммуникативного намерения лектора в его общении с аудиторией. Лингвистический анализ такого текста не позволяет в полной мере учитывать обратную связь между адресатом и адресантом, характеризовать непосредственные реакции слушателей. В план анализа не могут также войти характерные для лекции фрагменты-экспромты, частные логические уточнения и ассоциативные отвлечения от темы, продиктованные восприятием аудитории. Тем не менее опубликованный или записанный текст лекции дает возможность целостного рассмотрения данного жанра как монолога, рассчитанного на устное восприятие, и выявления типичных приемов диалогизации.
В данной статье поставлена цель выявления и определения жанровой специфики приемов диа-логизации академического монолога на материале опубликованных текстов лекций искусствоведа Паолы Волковой. Статья построена на сплошном обследовании материала1, объектом наблюдения послужила совокупность использованных лектором высказываний, содержащих открытые сигналы диалогизации, а именно: личные местоимения я, мы, ты, вы и соответствующие притяжательные местоимения мой, наш, твой, ваш. Учитывались также высказывания с побудительными формами глагола, имплицитно содержащими указание на второе лицо коммуникации. Этот набор формально выраженных сигналов диалогизации отражает ядро данной категории как функционально-семантической структуры, включающее в себя «средства, репрезентирующие категории автора, адресата и совокупного адресата» [Жуланова 2002: 9].
Основные функции местоимений идентифицируются исключительно в составе речевого акта [Василенко 2012: 98]. Личное местоимение первого и второго лица, как правило, подчеркивает персональность высказывания.
Применительно к жанру лекции названные выше личные местоимения целесообразно разбить на две группы, отражающие их роль в обозначении сторон коммуникации. В этом отношении местоимения я, мой и ты, твой, вы, ваш выделяют одну сторону коммуникации: указывают либо на адресанта, либо на адресата текста. Местоимения мы, наш противопоставляются всем названным выше, поскольку они объединяют участников коммуникации. Рассмотрим эти группы в обозначенной последовательности.
Местоимения я, ты, вы в составе приемов диалогизации
Исходно личное местоимение я соответствует «каждый раз единственному индивиду, взятому именно в его единственности» [Бенвенист 2002: 286], и в тексте лекции этот индивид – лектор. Наш материал показывает более сложную картину. Применительно к авторскому я в текстах лекций выделяем биографическую и обобщенную разновидности.
Биографическое авторское я реализуется, когда субъект высказывания действует в составе хронотопа «там и тогда». Так оформляются отсылки к собственному жизненному опыту лектора (в связи с излагаемым теоретическим материалом). Контекстные сигналы данной функции – это лексика, обладающая семантикой времени или места, вплоть до конкретных дат и географических названий, а также бытийные глаголы и глаголы перемещения. Например: В 1996 году во время пребывания в Англии я посетила одновременно Стоунхендж и театр «Глобус» , который уже отстроился и давал пьесы Шекспира (14)2. Именно такое употребление подчеркивает «единственность индивида», т.е. преподносит определенный факт конкретной авторской биографии или его личные устойчивые состояния: У меня есть в Лондоне знакомые друиды (7) .
Точечно включая в текст лекции сведения о своей жизни, лектор отходит от традиции сугубо отвлеченного изложения сложного интеллектуального содержания, персонифицирует подачу научных сведений и сближает личностную дистанцию сторон коммуникации.
Лекторское я приобретает черты обобщенности, когда субъект речи (лектор) действует в ситуации, не ограниченной конкретным местом и временем: Моя лекционная речь пространна, и для публикации курса потребовались бы тома, что невозможно . А пишу я , напротив, экономно, стремлюсь к сжатому тексту (7) . Здесь лектор фиксирует свое состояние в творческом процессе, выражает обобщенное представление о двух формах лекции, но биографичность данных употреблений доминирует над обобщенностью. Для подобных высказываний характерны речевые действия объяснения своего поступка и самооценки.
Обобщение субъективной позиции достигает максимума, когда местоимение я указывает на любого человека. Контекстным показателем данного значения являются слова обобщающей семантики, например: Должно быть развито самосознание , понятие того, что я – единица общества (129) . Здесь я – любой человек, что подтверждается применением методики субституции, ср.: [(любой) человек] – единица общества; А дома я совсем другой (131) и А дома [человек] совсем другой . Косвенным показателем обобщенности является включение местоимения в состав стилистической фигуры, фиксирующей некое общее положение: Вот оплот фамилии. Мой дом – моя крепость (131) . В этом афористическом выражении, основанном на синтаксическом параллелизме с лексической анафорой, обобщение касается любого человека, в том числе лектора и каждого его слушателя. Применение личного местоимения служит целям выразительности, достигаемой за счет персонификации.
Местоимения ты и вы указывают на адресата. Специфика обучающей ситуации такова, что лектор общается с группой собеседников, поэтому местоимение 2-го л. преимущественно употребляется в форме множественного числа вы , для которой имплицитное указание на близость собеседников отсутствует. В текстах лекций нами выделены три функциональные разновидности использования местоимений второго лица: конкретно-ситуативная, обобщенная и изобразительная.
Конкретно-ситуативная разновидность реализуется, когда сигналы второго лица указывают на аудиторию. Так лектор побуждает слушателей к участию в процессе осмысления содержания лекции. Характерной чертой данной функции является использование глаголов повелительного наклонения при отсутствии местоимения вы: Прочтите его «Хвастливого воина», «Грубияна», «Перса» и вы поймете, что его произведения вне времени (125); Посмотрите на фрески, сохранившиеся в помпейских домах (148). Другим контекстным показателем позиции «вы аудитории» является опора на лексику интеллектуальной деятельности: посмотреть, прочитать, учесть, подумать, представить себе, сопоставить и др.
Обобщенная позиция осуществляется, когда личное местоимение ты / вы или соответствующие глаголы указывают на любого человека. При этом возрастает количество форм единственного числа, а всё высказывание приобретает черты афористичности: Хочешь блага для общества – начни с себя (69). Здесь контекстный смысл ты -формы включает в себя и конкретного адресата высказывания, и, шире, любого человека, ср. трансформацию данной фразы: [если человек хочет] блага для общества – [пусть он начнет] с себя . Иногда обобщение ограничено составом определенной социальной группы, что выражено в контексте: Ибо, когда пишешь стихи , обращаешься в первую очередь не к современникам, не говоря уже о потомках, но к предшественника м (132).
Изобразительная разновидность контекстных смыслов местоимений второго лица реализуется, когда в высказывании достигается эффект присутствия. Контекстными показателями данной функции являются прежде всего элементы по-вествовательности, реализуемые с помощью глаголов изъявительного наклонения: Вы вступаете на мост, украшенный мифологическими скульптурами, в руках которых факелы (128). Лектор описывает ситуацию с помощью конкретно-предметных существительных мост, скульптуры, руки, факелы , конкретного глагола движения вступать . Конкретизироваться может и вымышленная ситуация: Вы переходите через реку времени, Лету, город за вашей спиной, впереди – вход в другой мир (128). В этом высказывании картина пути в другой мир также раскрывается в своей конкретике: река времени, город, за спиной, впереди, переходить реку . Рассмотренный прием является эффектным способом воздействия, поскольку базируется на технике художественной речи, а персонификация усиливает впечатление: мысленно адресат оказывается участником рисуемой ситуации.
Ещё один прием диалогизации, более редкий, – это прием имитации диалога с применением местоимений я и ты. В текст лекции включается имитация фрагмента реального диалога: Диалог возможен при условии слышимости, т. е. аку- стики «понимания». Я тебя слышу-понимаю сознанием, а не только ухом. Я тебя слышу, т. е. понимаю, что ты говоришь (84). В данном случае наблюдается эффект расшифровки понятия ‘диалог’ (см. первое слово высказывания) с помощью местоимений я и ты.
Таким образом, приемы диалогизации с помощью местоимений первого и второго лица до некоторой степени моделируют диалог между лектором и слушателями. Они персонифицируют категории автора и адресата лекции, погружают интеллектуальный материал монолога в контекст непосредственного общения лектора с его аудиторией или в обобщенный, но персонифицированный контекст. В плане восприятия сообщения это важно, поскольку придает интеллектуальному общению сторон коммуникации «человеческое измерение».
Местоимение мы в составе приемов диалогизации
При субъективно-модальном оформлении научного содержания лекции ее автору важно подчеркнуть общность своеобразного «научного коллектива», который образуется во время лекционной работы. Видимо, поэтому автор часто заменяет авторское я обобщенным мы – личным местоимением 1-го лица множественного числа (в лекциях П. Волковой личное местоимение мы употребляется гораздо чаще, чем я и ты, например, в лекции 1 это 28 словоупотреблений против 4).
Особое наполнение данного местоимения – это этикетная замена авторского я: Обратный пример – Вавилонская башня – <…>, о чем подробнее мы будем рассказывать в другой части нашей книги (39). Местоимением множественного числа заменяется местоимение я биографического подтипа. Контекстным указателем этикетной формы являются глаголы, связанные с указанием на лекционную деятельность: говорить (о чем), рассказывать, вернуться (к чему), упоминать, оставлять и др. С их помощью лектор продвигает содержание лекции, помогая адресату в оценке его компонентов без привлечения внимания к самому себе: Античная мифология не подтверждается данными критской археологии, как мы уже говорили (30) – подчеркивается повторный характер информации; Но этот вопрос мы оставляем за скобками (43) – определяется значимость данного фрагмента информации.
Местоимение мы как способ объединения автора с адресантом в текстах лекций имеет две разновидности. Конкретизированная разновидность реализуется, когда автор и адресат предстают в качестве коммуникативного единства в данной ситуации общения. Мы означает «я и вы, мои собеседники», здесь возможна замена слова мы словосочетанием мы с вами: Здесь нас интересует место рождения – пещера (27). Но мы давно договорились, что золотая маска Агамемнона Афинского музея, золотые украшения <…>, керамика, шлемы и есть микенско-минойский слой (28); Мы видим, знаем этот сюжет по европейской живописи (29). В таких случаях адресат лекции интеллектуально подтягивается к ее автору, чем обеспечивается эффект позитивного психологического влияния со стороны лектора. Контекстными показателями конкретизации является лексика интеллектуальной деятельности.
Обобщенная разновидность контекстных смыслов местоимения мы осуществляется, когда за ним стоит несколько субъектов, в том числе говорящий и его адресат. В этом случае «значение мы включает в себя я или даже образуется несколькими я » [Норман 2002: 217]. Обобщенность контекстного смысла доказывается методом субституции. Мы обязаны задавать себе вопросы. Вопрос главнее ответа (8), ср.: мы и [ люди ], [ все люди ]. До нас дошли изображения императора, описывающие обе его сущности (48), ср.: до нас и [ до современников ]. При этом очевидно, что «обобщенное мы » включает в себя и конкретное авторское я, и адресата высказывания. Смысл обобщенного мы заключается в следующем: «все (многие), в том числе я (автор) и вы (мои читатели, слушатели)».
Таким образом, использование местоимения мы делает прием диалогизации особенно емким. В нем обобщенный смысл сочетается с конкретизированным, а воздействующий эффект опирается на психологическую силу объединения лектора и его аудитории во время интеллектуальной деятельности. Базовый же смысл местоимений я и мы , не исчезающий в случаях семантического расширения, обеспечивает эффект персонификации содержания.
Распределение рассмотренных средств диало-гизации в тексте лекции зависит от функционально-смысловых модификаций личных местоимений. Во вступительной части лекции активно используется «биографическое авторское я», в основной части наиболее широко представлены варианты «мы коммуникативного единства». Они формируют совокупный субъект лекции, состоящий из лектора и его аудитории. Обобщенные функционально-смысловые варианты местоимений я, ты, вы, мы употребляются в логически значимых фрагментах основной части. Как правило, на их основе формируется какое-либо общее положение, необходимое лектору как большая посылка того или иного тезиса. С их помощью фиксируется общее место рассужде- ния, в опоре на которое автор далее излагает свой аргумент. Личное местоимение в составе изобразительного приема обычно является частью текстовой иллюстрации.
Наши наблюдения подтверждают, что диало-гизация в жанре лекции является повсеместным явлением, а личные местоимения первого и второго лица служат основным средством диалоги-зации. Категория персональности относится к основным ценностям русской культуры [Дементьев 2013]. Рассмотренные приемы служат для условной персонификации сугубо интеллектуального содержания академической лекции, что психологически облегчает его восприятие. Вероятно, индивидуальная лекторская манера связана с отбором и повышением частотности ряда конкретных приемов из числа их общего речевого состава. Так, для лекторской работы П. Волковой наиболее актуальны формы « мы обобщенного субъекта», а также « вы аудитории». Исследование диалогизации в лекциях ряда авторов позволит судить об индивидуальной специфике и общежанровом наборе приемов.
Примечания
-
1 Волкова П. Мост через бездну. Комментарий к античности. М.: АСТ; 2015. 340 c. URL: http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=102544 66 (дата обращения: 15.01.2016).
-
2 Цифра в скобках указывает на номер страницы в текстовом источнике материала.
FIRST-PERSON AND SECOND-PERSON PRONOUNS AS A MEANS OF DIALOGIZATION IN LECTURE COMMUNICATIVE PRACTICE
Qing Yang
Postgraduate Student in the Department of Rhetoric and Stylistics of the Russian Language
Ural Federal University
Список литературы Местоимения первого и второго лица как средство диалогизации в лекционной коммуникативной практике
- Бахтин М. М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. СПб.: Азбука, 2000. 336 с
- Бенвенист Э. Природа местоимений//Общая лингвистика. М.: Едиториал УРСС, 2002. С. 285-291
- Богомолов М. А. Диалогизация выступления как один из аспектов персонификации телевизионного сообщения//Значение и смысл слова: художественная речь, публицистика. М.: Изд-во МГУ, 1987. С. 92-99
- Борисова И. Н. Русский разговорный диалог: структура и динамика. М.: КомКнига, 2005. 320 с
- Василенко Е. Н. Местоимения как средство реализации коммуникативной стратегии убеждения (на материале политического дискурса)//Вестник Полоцкого государственного университета. 2012. С. 98-102
- Васильева А. Н. Курс лекций по стилистике русского языка: Научный стиль речи. М.: Русский язык, 1976. 187 с
- Дементьев В. В. Коммуникативные ценности русской культуры: Категория персональности в лексике и прагматике. М.: Глобал Ком, 2013. 336 с
- Дускаева Л. Р. Диалогичность речи (письменной)//Стилистический энциклопедический словарь русского языка/под ред. М. Н. Кожиной. М.: Флинта; Наука, 2003. С. 45-53
- Жуланова Е. А. Диалогичность учебно-научного монолога в речевой ситуации школьного обучения: автореф.... дис. канд. филол. наук. Екатеринбург, 2002. 23 с
- Куприна С. В. Устная и письменная монологическая речь одного лица: дис.. канд. филол. наук. Саратов, 1998. 186 с
- Матвеева Т. В. Диалогизация//Матвеева Т. В. Полный словарь лингвистических терминов. Ростов н/Д: Феникс, 2010. С. 89-90
- Норман Б. Ю. Русское местоимение мы: внутренняя драматургия//Russian Linguist. Netherland: Kluwer Academic Publishers, 2002. C.218-234
- Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку: М.: Гос. учеб.-пед. изд-во министерства просвещения РСФСР, 1957. 188 с
- Якубинский Л. П. О диалогической речи//Якубинский Л. П. Избранные работы. Язык и его функционирование. М.: Наука, 1986. С. 17-58