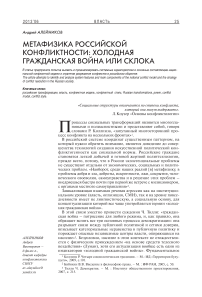Метафизика российской конфликтности: холодная гражданская война или склока
Автор: Алейников Андрей Викторович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Позиция
Статья в выпуске: 6, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка выявить и проанализировать системные характеристики и основные составляющие национальной конфликтной модели и стратегии разрешения конфликтов в российском обществе.
Российские трансформации, власть, конфликтная модель, конфликтный стиль
Короткий адрес: https://sciup.org/170166974
IDR: 170166974
Текст научной статьи Метафизика российской конфликтности: холодная гражданская война или склока
Л.Коузер «Основы конфликтологии»
П роцессы социальных трансформаций являются многопла-новыми и полиаспектными и представляют собой, говоря словами Р Коллинза, «запутанный многосторонний про -цесс конфликта на нескольких фронтах»1.
В российской системе координат существенным паттерном, на который нужно обратить внимание, является доведение до совер-шенства технологий создания искусственной политической кон -фликтогенности как социальной нормы. Российские граждане становятся легкой добычей и готовой жертвой политтехнологов, прежде всего, потому, что в России экзистенциальные проблемы не существуют отдельно от экономических, социальных и полити ческих проблем. «Наоборот, среди наших реалий [в] метафизику, в проблемы добра и зла, доброты, искренности, лжи, сокрытия, чело веческого своеволия, самоуправства и в решение этих проблем — внедряешься быстро почти при первой же встрече с милиционером, с органами местного самоуправления»2.
Зашкаливающая взаимная речевая агрессия как на институцио -нальном уровне (власть, оппозиция, СМИ), так и на уровне повсе-дневности имеет не лингвистическую, а социальную основу, для концептуализации которой все чаще употребляется термин «холод ная гражданская война».
В этой связи уместно привести суждения Ч. Тилли: «граждан-ская война — потрясение для любого режима, и, как правило, она обращает вспять все три основных процесса демократизации: она разрывает связи между публичной политикой и сетями доверия, вписывает категориальные неравенства в публичную политику и порождает опасные независимые центры власти, опирающиеся на насилие»3. Безусловно, насилие в этом контексте не отождествля-ется с физическим принуждением «на основе средств телесного воздействия» (Луман), хотя его актуализация вообще есть один из индикаторов «холодной гражданской войны». Фундаментальное
-
1 Коллинз Р Четыре социологических традиции. — М.: ИД «Территория будущего», 2009, с.101.
-
2 Бибихин В.В. Введение в философию права. — М. : ИФ РАН, 2005, с. 50.
-
3 Тилли Ч. Демократия. — М. : Институт общественного проектирования, 2007, с. 215.
значение имеет структурная и символическая форма насилия, применение которого является «также кульминаци -онным пунктом конфликта, в котором неизбежно должно выясниться, кто из сторон конфликта одержит победу. При этом выбор той или иной альтернативы в рамках бинарного схематизма ориента-ции проистекает из антиципации исхода конфликта»1. При этом особое значение имеет «тот наворот русской жизни, кото рый состоит в том, что русский человек ставит себя в... ситуацию всегда предель-ную (!), выход из которой — всегда ради -кальный (или в ту, или в иную сторону)»2.
Исследование истории российских кей -сов деконструкции и разрушения социума зачастую ограничивается спекулятивным анализом «элитных интриг, клановых раскладов и иностранных интересов»3. Подобное редуцирование не позволяет выявить такую специфику российского конфликтного взаимодействия, как отсут ствие социальной динамики в движении от «токсичных» видов социальных кон фликтов, не поддающихся институциона -лизации и несущих угрозу существованию общества, в сторону по преимуществу «позитивных», не приводящих к разруше нию социума механизмов неконфликтных изменений и конфликтов, поддающихся институционализации.
Между тем, необходим анализ измене -ний, по формуле Т Парсонса, «институци-онализированных стандартов»4 норматив -ной конфликтологической культуры рос сийского общества и глубинного архетипа «конфликтологического разума» россий ского народа, влияющего на «токсично конфликтогенный»5 тип нашего разви -тия6.
Социологические исследования пока - зывают, что в глобальном индексе миро любия7 (Global Peace Index) Россия зани-мает 153 -е место из 158 - между КНДР и Демократической Республикой Конго. Т. Парсонс утверждал, что именно ценностно нормативный консенсус в обществе обеспечивает социальный поря док, а максимальное распространение не находящихся в конфликтных отношениях, потенциально примиряемых базовых цен ностей и норм, их институционализация обеспечивают стабильность и четкое функ ционирование общества8. В сравнительном же исследовании ценностей, проведенном В. Магуном и М. Рудневым, зафиксиро-вано, что по параметрам «благожелатель ность» и «универсализм» (приятие чужого) Россия занимает одно из последних мест и принадлежит к числу европейских стран с низким межиндивидуальным ценностным консенсусом по большинству базовых ценностей. Симптоматично, что разрабо-танная Карлом Шмиттом фундаменталь -ная дихотомия «друг/враг», определяющая суть конфликтной модели, обращена не только внутрь российского социума, но и вовне. По результатам опроса Всемирного экономического форума, который оцени вал степень дружелюбия к иностранцам, Россия уступает «пальму первенства» по недружелюбию Венесуэле и Боливии и опережает по этому показателю Иран, Пакистан и Саудовскую Аравию9.
Приведем замечательно красноречивую формулировку, прозвучавшую в одном из выступлений на солидной научной конференции: «Мы - страна сбывшейся конфликтологии»1. Эту ситуацию очень ясно диагностировал на материалах после -революционной России В.П. Булдаков: «Практически не осталось людей, живу -щих в гармонии со своим социальным окружением и давлением “внешнего мира”. Противоречия носили настолько сложный, системно - парализующий харак -тер, что возник синдром “гордиева узла”, который проще разрубить, чем распутать... Эти фрустрационные судороги... сказыва-ются и сегодня»2. Негативная социальная энергия проявляется в антагонистических конфликтах в сферах символических войн в социальных сетях, войнах компроматов, в повседневном быту.
Наглядной иллюстрацией ригидности и централизации российских политиче -ских конфликтов является рассмотрение политическими партиями и обществен ными движениями отхода от позиций как унижения, потери чести, достоинства, авторитета, репутации, власти, что, соот ветственно, увеличивает и интенсивность конфликта3.
Прежде чем приступать к собственно анализу российской конфликтной модели, предложим рабочее операциональное определение. Конфликт — особый вид отношений социальных и политических субъектов друг к другу, символизирующий разновидность активной борьбы между ними и тип мышления об их отношениях между собой, являющийся результатом тематизации негативной коммуникации4, обусловленный неадекватным ответом одного социального субъекта на вызов дру гого, находящегося в критической степени дискомфортности, вызванной абсолютной или относительной ресурсной деприва цией5, и выражающийся в виде определен -ных социальных практик.
Вопрос о национальной конфликтной модели может быть рассмотрен в рамках фокусирования на социальных, психоло гических, политических механизмах раз решения конфликтов.
-
1. Критерии упорядоченности социальных полей конфликта . В социуме либо сфор-мированы устойчивые представления о приемлемом уровне конфликта как про дуктивного элемента социального вза имодействия, позволяющего отрефлекси ровать собственную позицию, оптимизи ровать конфликтную ситуацию, внести в нее необходимые коррективы, либо отри цается продуктивность конфликта, а при знается лишь борьба на уничтожение.
-
2. Мера антропоцентричности или власте- (иерархо-) центричности. Выражается в способах действий или механизмах раз решения конфликтов. В первой модели данные механизмы определяются инсти туциональной системой «работы» с кон фликтом, соизмеримой с человеком и ори ентированной на него, в которой решение конфликтных социальных проблем ищут в гражданских сетевых связях, на разных уровнях, в различных точках горизонталь ных коммуникаций. Во второй - комму -никативные конфликтные отношения завязываются на власть, единственным закрепленным в тра дициях способом действий является жалоба начальству, все неразрешенные конфликты центрируются на вершину управленческой пирамиды, где социальный организм концентрирует кон фликты и куда канализируется конфликт ная социальная энергия, некомпенсиро ванная, неперекрытая и нецивилизован ная. Истина, сила и право в разрешении конфликтов всегда остаются за иерархией, которая является носителем и выразителем идеи целого, всегда стремящегося к сня тию конфликта всеми сдерживающими, репрессивными, силовыми способами . В этой парадигме конфликт зачастую раз решается или покупается ценой победы иерархии над здравым смыслом.
-
3. Критерии эстетической оформленности конфликта. Обеспечивает ли стиль разрешения конфликта, выхода из негативной ситуации психологический комфорт, рождает ли чувство защищенности?
Отправной точкой описания и анализа конфликтной модели общества может быть выделение 2 основных уровней. Первый — онтологический, типологизирующий кон -фликтные ситуации данного типа обще ства, их особенности и структуру, которые остаются инвариантными. Конфликтные модели обществ разграничены по разным типам взаимосвязей между вызовами и ответами и разными стратегиями преодо ления социального дискомфорта, типов поведения в конфликте. Следовательно, речь идет о наличии или отсутствии (иска-женности) в обществе институциональной обеспеченности интегрирующих меха низмов, сочетании условий, позволяю щих компенсировать или нейтрализовать структурные конфликты внутри социума.
Второй — операциональный, т.е. опреде-ленный набор стереотипных сценариев конфликтного поведения, совокупность приемов конфликторазрешения, вырабо танных и используемых в данном обще стве. В данном исследовательском сюжете важно, что в условиях посткоммунистиче ского перехода политический конфликт, логика оппозиций превращается в войну за государство, в технологию создания искусственной политической конфликто генности как социальной нормы.
В истории русской системы1 (а значит, и в истории «конфликтов российских») нет «даже намеков на договоры и взаимоогра ничения», для нее не характерны диалог (по определению А.С. Ахиезера, «в России вместо диалога реализуется совокупность монологов»), взаимные уступки и компро миссы.
Силовые линии социального поля (зоны социального пространства, в которых конфликтное взаимодействие принимает особо интенсивный характер), по которым можно оценивать напряженность социума, в российском (и постсоветском) простран стве быстро проходят некий пороговый уровень и радикально меняют социально политический ландшафт в считанные дни и даже часы. О том же говорит и Д. Фурман: «Опыт других систем этого “вида” говорит о том, что летальный кризис всегда “под-крадывается незаметно” — его неожидан -ность имманентна системам, в которых нет обратной связи власти общества, где в избытке поступают сигналы об опасностях не реальных, но не поступают сигналы об опасностях реальных»2.
Таким образом, можно отметить, что в России конфликты нередко принимали особенно острый, обвальный, разруши тельный, катастрофический характер, ведущий к быстрому и «неожиданному» (революционному, а не эволюционному) слому институциональной структуры. По выражению Л. Козера, «в крайне поляри-зованных социальных системах, где вну тренние конфликты разных типов накла дываются друг на друга, единое прочтение ситуации и общность восприятия событий всеми членами системы вряд ли вообще возможны. В условиях, когда группа или общество раздираемы враждой лагерей вне всякой объединяющей цели, заключе-ние мира становится почти невозможным, так как ни одна из внутренних партий не желает принять определение ситуации, предложенное другими»3.
Травматологическая метафора Штомп -ки4 акцентирует внимание на признаках дезинтеграции посткоммунистического общества, его системной конфликтно сти.
Операционализируя данный концепт, можно предположить, что существует два типа конфликтного стиля1 общества. Фокус их изучения перемещается в точку рассмотрения определенной системы институционализации конфликтов. Один путем постоянной реконфигурирации конфликтов, не допуская острых вспышек, раскручивает спираль социальной реконструкции и приводит к внедрению нового социального комплекса, предоставляя «обеим сторонам безотлагательную возможность для прямого выражения противоречащих друг другу требований... элиминировать источник недовольства, … искоренить причины внутреннего разобщения и восстановить социальное единство»2. Данный стиль, при котором между участниками конфликта выстраиваются «коммуникативные мосты», можно, используя концепцию американского политического философа Айрис Янг3, назвать «коммуникативной демократией».
В противоположном же стиле «коммуникативного разрыва» выстраивается такая конфигурация разрешения, вернее, подавления конфликтов, при которой она обеспечивается не в результате интериори-зации социальных норм, а насильно, путем вмешательства вла-сти.
Данная архитектура конфликторазре-шения может положить начало спирали социального разрушения, упадку и полной дезинтеграции общества. По З. Бауману, общество обречено на умира-ние, на полный коллапс социально-нормативной системы, если отми рание традиционных институтов не восполняется новыми институтами неформального общения и социального контроля4. Такой конфликтный стиль Р. Дарендорф сравнивал со злокачественной опухолью: «Тот, кто умеет справиться с конфликтами путем их признания и регулирования, тот берет под свой контроль ритм истории. Тот, кто упу- скает такую возможность, получает этот ритм себе в противники»5.
По-видимому, нет такого социума, где дуалистическое, политическое, экономическое и др. пространства (поля) не существовали бы вообще.
Все зависит от того, каков «национальный стиль» развития страны в миросистеме, характеризующийся особенностями режимов и грамматик, жестко или нежестко навязываемых миросистемой правил6, какова природа конфликта постсостояния между воздействием традиций прошлого и их публичным отвержением (Дарендорф).
Бердяев утверждает, что «подойти к разгадке тайны, скрытой в душе России, можно, сразу же признав антиномичность России, жуткую ее противоречивость»7. Перенос им понятия «антиномия» из сферы идей в сферу общества означает обнаружение таких противоречивых свойств социума, которые, постоянно переходя друг в друга, неустранимы. Бердяевская «кента-вичность», противоречивое совмещение прошлого с новыми реалиями, определяет конфликтный стиль России.
При этом существующая институциональная структура разрешения конфликтов может «загнать» (Дуглас Норт) общество в определенное русло развития.
Причины неудач модернизационн-ных проектов на российском пространстве во многом определены конфигурацией системы институционального ограничения конфликтов и слабостью «конфликтно-позитивных», консенсусных ценностей и установок.
Конфликтная модель определяется измерениями насилия. Дуглас Норт с соавторами сформулировали адекватный показатель категоризации конфликтных моделей, при котором важно «определить, приводит ли рассеянный контроль над насилием к угрозам его применения, играя центральную роль в социальном порядке, или контроль над насилием консолидирован и поэтому многие отношения осуществляются без угрозы насилия. Порядки ограниченного и открытого доступа коренным образом отличаются друг от друга по отношению к этим измерениям насилия и организации насилия»1. Ключевое зна-чение приобретают механизмы разреше -ния конфликтов, определяющие характер социального, политического, экономи-ческого и культурного ландшафта, или, иначе говоря, ключевой способ конфлик-торазрешения в том или ином обществе.
В российской практике реализуется в основном модель использования наси лия ради достижения групповых интере -сов в формате открыто манифестируемой вражды различных социальных групп при осознанном использовании политических технологий интенсификации и эскала ции конфликтов, в т.ч. с использованием приема поисков внутреннего и внешнего врагов. В контексте этой устойчивой тен денции социального развития, политиче ской традиции и политической культуры возникает эффект преобладания админи стративных методов регулирования кон фликтности и доминирование неформаль ной составляющей институционализации конфликтов2.
Признаки этого процесса в современной действительности многократно описаны — от резкого увеличения штрафов за наруше ния при проведении митингов, появления в законе понятия «иностранные агенты» до угроз проведения массовых несанкцио нированных митингов со стороны оппози ции. Разумеется, было бы непроститель-ной самонадеянностью безапелляционно требовать от акторов российской поли тики понимания таких инструментальных возможностей адекватного разрешения политических конфликтов, как, например, честность. Напротив, как писал Луман, используются все возможности «отрицания и сокрытия конфликта ложью, обманом, ложными символами»3. И здесь нет ничего нового — но (!) современная модель искус - ства улаживания конфликтов строится на гештальте или, говоря словами Сократа, понимании и ограничении лжи и криво душия в политике. Наиболее заметным проявлением такого формата отношений является технологичное и компромиссное вскрытие глубоких сущностных проблем, при котором имманентным качеством политической культуры является перевод ранее скрытых конфликтов в открытое публичное пространство, их обнажение. В одной конфликтной модели общества вос приятие конфликта - это не ужас перед вскрытием пережатых каналов коммуни кации, когда хлынет застоявшееся содер жимое, а упорядочение коммуникативного хаоса, нацеленного на принципиально новые модели конфликтного поведения.
В рамках другой модели реализация тре бований заинтересованности всех акторов конфликтного процесса в установлении общих правил игры, признание их взаим ной необходимости и ценности практи чески невозможна. Конфликт, по Луману, — не прерывание и не прекращение ком -муникации, а ее продолжение в опреде ленной ее форме. Л. Козер считал жесткое очерчивание предмета спора лишь усло вием соглашения, в котором четко зафик сированы цели противников и оговорен момент будущего исхода борьбы4.
В конфликтном взаимодействии важно не столько «обозначение различий в под -ходах», сколько определение того, что Ю.М. Лотман называл «открытым спи -ском разных языков, взаимно необхо димых друг другу в силу неспособности каждого в отдельности выразить мир»5. Политические позиции сторон конфликта, используя лотмановский инструментарий, накладываются друг на друга, по разному отражая одно и то же, располагаются в «одной плоскости», образуя на ней вну тренние границы, превращая культурные и политические антонимы в синонимы.
В России стороны конфликта, как правило, в т.ч. и путем коррекции институциональных правил, готовятся не к компромиссу, а к максимальной напряженности. Луман называет это «проблемой избыточного давления», когда «разочарованных побуждают продемонстрировать, что в своих ожиданиях они придерживаются своих ожиданий спровоцировать конфликт и, по возможности, настоять на своем. К тому, кто на этом основании делается агрессивным, трудно подступиться, потому что приходится считать, что он сам по себе прав. Однако следствия могут выходить далеко за пределы повода. И то, что предусматривалось в качестве публичной под-держки и тем самым содействовало решимости ожидаемого, может стать проблемой общественного возмущения»2. Правила координации и разрешения конфликтов всякий раз разные и всякий раз устанавливаются под действием силы, механизмы согласования складываются в основ-ном на неформальном уровне.
В такой системе координат это приводит к неизлечимой патологически разрушительной конфликтности социума, поскольку усиление жестких силовых обертонов в управленческих практиках, распространение силовых стратегий власти с репрессивным окрасом (запрещение, предотвращение, уничтожение) минимизируют позитивные возможности конфликта. Здесь необходимо отметить и зафиксированную рядом исследователей (например, С. Каливасом) закономерность: лучше других в конфликтах, в т.ч. и жестоких гражданских войнах, выживают те, кому удалось пощадить противника, ибо великодушие создает сильные обязательства и прерывает цикл насилия и мести3.
В России, похоже, на стратегическом уровне политической рефлексии крайние, предельные формы конфликта (мантры об исчерпанности лимита революций или о российском бунте – «бессмысленном и беспощадном») как бы запланированы и только ждут своей реализации при определенных условиях в политической практике. Конфликт редуцируется до разнообразных политических и социологических спекуляций об особенностях повседневного поведения или политического языка его субъектов. Выдающийся филолог, двоюродная сестра Бориса Пастернака Ольга Михайловна Фрейденберг, обобщая свой горький житейский опыт, выдвинула концепт склоки как методологии нашей политической рефлексии, выяснения важнейших социально-политических вопросов на языке фиксирования своих отрицательных эмоций по поводу других субъектов конфликта. «Это низкая, мелкая вражда, злобная групповщина одних против других, это ультрабессовестное злопыхательство, разводящее мелочные интриги. Это доносы, клевета, слежка, подсиживанье, тайные кляузы, разжигание низменных страстишек одних против других. Напряженные до крайности нервы и моральное одичанье приводят группу людей в остервененье против другой группы людей, или одного человека против другого. Склока – это естественное состояние натравливаемых друг на друга людей, беспомощно озверевших, загнанных в застенок. Склока – альфа и омега нашей политики. Склока – наша методология»4. Склока как атрибутивная черта российской политической конфликтности транслируется в неформальные социальные механизмы и ритуалы, перекрывая каналы и мосты коммуникации, загоняя конфликты в «институциональную ловушку».
В отличие от этой парадигмы, моделирующей динамику конфликтов в закрытой системе и стремящейся максимально блокировать диалоговую составляющую, медиативная структура предполагает принцип открытости конфликта, динамичное взаимодействие в реальном снятии конфликтной оппозиционности. Однако коммуникативная этика – наиболее продуктивная форма конфликтного процесса – не является определяющим элементом политического сознания и конфликтной культуры России.