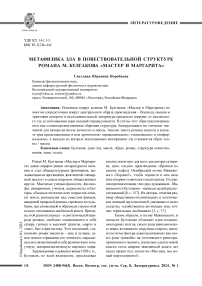Метафизика зла в повествовательной структуре романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»
Бесплатный доступ
Полемика вокруг романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» во многом сосредоточена вокруг центрального образа произведения - Воланда, оценки и трактовки которого в исследовательской литературе предельно широки: от вселенского зла до воплощения идеи высшей справедливости. В статье этот образ рассматривается как сложноорганизованная образная структура, базирующаяся на этически значимой для автора антитезе личности и массы. Анализ текста романа ведется в аспекте трех представленных в нем хронотопов: «ершалаимском», «московском» и «инфернальном», в каждом из которых воплощением метафизики зла становится образ толпы / массы.
Булгаков, идея зла, масса, образ, роман, структура повествования, тема, толпа
Короткий адрес: https://sciup.org/149147317
IDR: 149147317 | УДК: 821.161.1-3
Текст научной статьи Метафизика зла в повествовательной структуре романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»
Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» давно перерос рамки литературного явления и стал общекультурным феноменом, вызывающим на протяжении десятилетий «немирный диалог» в самых широких общественных кругах. Маститые ученые-филологи, философы, священники, учителя, журналисты и блогеры, обычные читатели всех возрастов ломают копья, размышляя над смыслом финала, жанровой природой романа, героями и их судьбами, над символикой и образным строем этой во всех отношениях необычной книги. Причина этой разноголосицы – в синтетической природе романа, свободно соединившего в себе сатиру, гротеск и высокий трагизм, «верх» и «низ», быт и фантастику. Этот последний, «закатный» роман писателя – еще и лучшее, самое полное отражение его личности, парадоксально совместившей в себе религиозную и научную, материалистическую картины мира.
Задумав роман о дьяволе в конце 1920-х гг., Булгаков, по всей видимости, преследовал вполне понятную для него, как автора-сатирика, цель: создать произведение, обратное по своему пафосу Октябрьской поэме Маяковского «Хорошо!», чтобы подвести в нем свои итоги первого советского десятилетия. О сложном противостоянии этих двух художников – Маяковского и Булгакова – написан целый ряд исследований [6, с. 157]. Их авторы, отмечая разницу общественно-политических и эстетических позиций двух писателей, указывают и на их сходство, «свойственное антиподам или, точнее, зеркальным двойникам» [5, с. 37].
Таким образом, и поэму Маяковского, и замысел Булгакова сближает идея подведения первых итогов, своего рода ревизии нового мира, возникшего на руинах старого, именно поэтому фигура дьявола возникает как своего рода «римейк» на гоголевского ревизора, призванного оценить, насколько удался новой власти столь широко заявленный десять лет назад проект под лозунгом «Мы наш, мы новый мир построим!».
В итоге этот первичный замысел, неизбежно вылился бы исключительно в острую сатиру на советское общество и советского обывателя, которого не изменить никаким революциям. Сюжет романа грозил остаться таким образом в русле фельетонов, сатирических повестей и пьес, созданных Булгаковым в 1920-е гг., но ниша сатирического романа с подобным сюжетом к этому моменту в литературе уже была занята дилогией И. Ильфа и Е. Петрова, конкурировать с которой Булгаков, возможно, не хотел уже потому, что был бы на этом поле вторым.
Важным фактором, повлиявшим на изменение начального замысла, является, на наш взгляд, и тот факт, что на рубеже этих десятилетий Булгаков довольно тесно общается с Е. Замятиным, выступившим в 1920-е гг. с рядом статей о принципах нового искусства. В его концепции и сатира («бич Аристофана»), и «ода» занимают равноправное место, образуя «катод и анод в литературе» [2, с. 214], являясь теми двумя полюсами, которые и создают в искусстве слова «антиэнтропийное» напряжение мысли. Выскажем предположение, что Булгаков, будучи знакомым с теоретическими разработками своего друга и собрата по перу, не только разделял, но и воплощал их в своем творчестве.
Итак, новый замысел, новая концепция романа должна была базироваться на следующем тезисе: не слишком лояльный к человеку, но все-таки беспристрастный дьявол-ревизор констатирует неизменность человеческой природы, оказавшейся неподвластной никаким революционным поворотам истории. При этом неизменными в ней остаются не только любовь к деньгам, лживость, трусость, предательство, безделье и другие многочисленные человеческие пороки, но и лучшие человеческие качества, такие, как доброта, самоотверженность, любовь, стремление к истине, то есть все, что и определяет человеческую природу, и что безусловно заслуживает оды. Такой разворот темы и приводит Булгакова к необходимости внести существенные изменения в сюжет, структуру и жанровую форму романа. Появляются новые герои, усложняется нарратив, и от сатиры Булгаков переходит к философским, «пороговым» вопросам бытия, главный среди которых – вопрос о добре и зле.
Образным воплощением идеи зла в романе является Воланд. Разбору его посвящен целый ряд исследований, в которых подробно анализируется его литературная и мифологическая «биографии», при этом спектр трактовок этого персонажа остается предельно широким: от вселенского зла до воплощения идеи высшей справедливости [4, с. 15].
Оригинальность булгаковской трактовки, на наш взгляд, проистекает из приятия писателем «мерцающей», «текучей», «двойственной» природы зла, его неочевидной, вечно рядящейся под добро сущности. Об этом и предваряет читателя эпиграф к роману: Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Гете. «Фауст» [1, с. 272]. Слова принадлежат бесу – Мефистофелю, но подписан эпиграф именем Гете, не верить которому у читателя нет оснований. Но можно ли доверять бесу? Этот вопрос возникает не у всех и не сразу, и как продолжение его – вопрос о том, можно ли верить словам Воланда?
Специфика его образа как знака видится нам близкой к тому, что у деконструктивистов будет обозначено как «плавающее означающее» (Лакан), которое отсылает не к означаемому, являющемуся непосредственно внеязыковой реальностью, а к целой цепочке других означающих, благодаря чему и возникает эффект неуловимости идеи зла. Это поддержано в романе и другими приемами: сатана многолик, изменчив, а его многочисленные имена и определения поражают своим обилием уже в черновых набросках к роману, продолжают они множиться и в итоговом варианте текста. Остановимся на том, что дает ему «посланник света» Левий Матвей: «старый софист», которое вновь, как и эпиграф, возвращает нас к вопросу о вере в то, что говорит Воланд, ведь софисты известны именно своими словесными уловками, смешиванием и подменой понятий, заведомо неверными посылками и сознательным нарушением логики. По сути, бывший сборщик податей назвал Воланда лжецом. При этом все, что говорит Воланд, а он не велеречив, а, скорее, лапидарен и афористичен, воспринимается при чтении как неопровержимая истина. Возникает некий диссонанс: Воланд – лукавый бес, старый софист, при этом вещающий истину?
Булгаков разрешает этот парадокс следующим образом: в его мире Истина подчеркнуто индифферентна добру и злу, она объективна и упряма, безусловна и неопровержима, ее не надо доказывать и подтверждать, она принадлежит сфере вечного и бесконечного. «Это – факт. А факт – самая упрямая в мире вещь» [1, с. 543], – говорит Воланд, проводящий ревизию этого нового мира. Именно поэтому его ложь и казуистика не касаются очевидных для него фактов: « человечество любит деньги» [1, с. 392]; «милосердие иногда стучится в их сердца» [1, с. 392]; «человек смертен, иногда внезапно» [1, с. 281]; «Иисус существовал» [1, с. 284]; «рукописи не горят» [1, с. 557] . Воспринимаются они как таковые и читателями, а фигура Воланда как будто обретает в наших глазах неоспоримый авторитет.
И все же ложь и лукавство присущи его сентенциям и прежде всего тем из них, что связаны с его самооценкой. Так, предсказывая Берлиозу скорую смерть, Воланд указывает на повод: «Аннушка уже пролила масло» [1, с. 314], умалчивая при этом о причине, то есть о своем участии, а ведь не вступи он в беседу двух литераторов и не спровоцируй их своими свидетельствами о Понтии Пилате, Берлиоз вряд ли помчался бы к турникету навстречу трамваю и своей гибели. Или его высокомерное «мне ничего не трудно» [1, с. 633], брошенное в ответ на просьбу Левия Матвея устроить судьбу Мастера: как мы видим, кое-что все-таки духу зла и повелителю теней не под силу, а именно – переступить через проявления человеческого милосердия, от проникновения которого он хочет оградить себя, «заткнув все щели» [1, с. 533] в окружающем его пространстве .
И, наконец, самый, пожалуй, развернутый софизм Воланда: «Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом?» [1, с. 632]. Именно он содержательно напрямую связан с другой максимой, озвученной в романе Иешуа: «Злых людей нет на свете» [1, с. 293]. Мир без теней и мир без зла – этически идентичные, они определяют границу, отделяющую в романе добро от зла, но в их метафизическом смысле. Лукавство Воланда в том, что он переводит их из метафизической в эмпирическую реальность, попутно, как истинный софист, меняя местами причину и следствие, поэтому у него тень – порождение людей и предметов. Но ведь тень лишь внешне кажется порождением людей и предметов, ее сущность заключается в отсутствии света, как и сущность зла – в отсутствии добра.
Явной демагогией отдают и слова мессира об «ободранном» ради «голого света » земном шаре. Перемешивая и тасуя, как колоду карт, очевидные и неоспоримые истины с софизмами, Воланд обращает в свою веру тех, кто не видит между ними разницы, кто не одержим Истиной, кто покупается на яркую обертку, на материальные блага и сиюминутные удовольствия, кто жаждет хлеба и зрелищ. И здесь в романе появляется и подробно исследуется автором образ истинного зла, точнее, его источник, его вечная страта – это толпа, масса.
Работая над своим главным романом, Булгаков не мог не ощущать себя свидетелем и современником смены двух культурных парадигм: старой, дореволюционной, с ее верой в гуманизм, с ее гимном Человеку-творцу, яркой индивидуальности, Любви и Добру и новой советской, в которой ключевыми понятиями становятся масса, коллектив, класс, а человек, теряя свою индивидуальность, нивелируется как личность, превращаясь в «колесико и винтик», в безвестный «нумер», в представителя легко управляемой массы.
Антитеза массы как героя советской литературы и толпы у Булгакова – следствие контроверзы его собственного художнического «суверенитета» и «генеральной линии партии» в современном ему литературном процессе, поэтому если говорить об антисоветском пафосе романа, то его источник надо искать прежде всего в этой точке.
Итак, масса, толпа, как предмет изображения, предстает в «Мастере и Маргарите» развернуто и, что особенно важно, присутствует во всех трех пространственно-временных измерениях, как, собственно, и сам Воланд: в московском, ершалаимском и во вневременном или инфернальном (бал у сатаны), задавая общий вид сложно организованного романного хронотопа, определяющего характер целостности созданного Булгаковым художественного мира.
Изображая толпу, Булгаков прибегает к различной «оптике», последовательно решая важную художественную задачу: показать лик зла во всех его ипостасях.
В «ершалаимских» главах толпа предстает неперсонифицированной, аморфной массой. Как синонимичную ей Булгаков использует стилистически сниженную лексику: «скопища людей»; «стаи богомольцев»; ей сопутствует символика стихийного начала: шум моря, волна, толпа « готова залить и самый помост », она начинает «негромко» , а потом становится «громоподобной» , ее «никакою силой нельзя заставить умолкнуть». Кроме того, ее поведение подчеркнуто агрессивно: толпа «съела площадь» ; она «ударила Пилату в уши звуковой волной» ; « в ней задавили нескольких женщин» ; в ней «бушевали рев, визги, стоны, хохот и свист» [1, с. 305] .
Ершалаимскую толпу опасаются и Пилат, и Каифа, но она же для них – предмет манипуляций в борьбе за власть: Пилат укрощает ее силой ( «И не водою из Соломонова пруда, как хотел я для вашей пользы, напою я тогда Ершалаим! Нет, не водою! Вспомни, как мне пришлось из-за вас снимать со стен щиты с вензелями императора, перемещать войска, пришлось, видишь, самому приехать, глядеть, что у вас тут творится!» ) [1, с. 303]; Каифа же примеряет на себя маску народного заступника и радетеля ( «я, первосвященник иудейский, покуда жив, не дам на поругание веру и защищу народ!» ) [1, с. 303] . Но Булгакову важно подчеркнуть, что толпа – это прежде всего скопище людей праздных, любопытных, жадных до зрелищ и пиршеств и абсолютно равнодушных к судьбе казнимых, их мукам и степени их виновности: «…у подножия, не осталось, вопреки всем ожиданиям, ни одного человека. Солнце сожгло толпу и погнало ее обратно в Ершалаим» [1, с. 441] .
Никто не сделал попытки отбивать осужденных ни в самом Ершалаиме, наводненном войсками, ни здесь, на оцепленном холме, и толпа вернулась в город, ибо, действительно, ровно ничего интересного не было в этой казни, а там в городе уже шли приготовления к наступающему вечером великому празднику пасхи» [1, с. 442].
Иначе изображается масса в московских главах, Булгаков сосредоточен теперь на ее «атомах», на тех, кто входит в ее состав, становясь питательной средой для зла в его сущностном, метафизическом смысле. Это и зрители Варьете, и посетители Грибоедова, члены МАССОЛИТА, и многочисленные персонажи, данные персонифицировано, как герои своих микросюжетов. Множество мелких, совершенно приземленных и «негероических» героев, среди которых нет даже по-настоящему больших чинов, встречаем мы на страницах романа.
В отличие от «ершалаимских», где фигурирует слово «толпа», к «московским» главам Булгаков применяет слово «масса»: оно угадывается и в названии литературной организации, возглавляемой Берлиозом, его упоминает и Воланд, когда говорит буфетчику Сокову о цели своего визита в Москву: «мне хотелось повидать москвичей в массе» [1, с. 476], на «зрительскую массу» [1, с. 396] ссылается Семплияров, требующий разоблачения черной магии .
Булгаков увлеченно, с подлинным мастерством сатирика и фельетониста выписывает образы, составляющие эту массу, причем так, что каждый из них, действуя в рамках своего микросюжета, наделенный, как правило, запоминающимся именем, особенной внешностью, тем не менее странно похож на остальных. В основе этого сходства – их общая растерянность перед лицом вселенского зла, отсутствие воли противостоять ему. Иными словами, объединяет этих пестро написанных, но странно сходных между собой персонажей прежде всего нечто, то, чего в них нет по определению, как у части безликой массы, и именно отсутствие этого нечто позволяет Воланду и его свите открыто глумиться над ними, делать их предметом своих «фокусов», а заодно и нашего, читательского презрения. При этом в параллельном сюжете «ершала-имских» глав Иешуа Га-Ноцри дает каждому из нас иной пример отношения к человеку, для него-то все люди добры: и жестокий прокура- тор, и безжалостный легионер, и подлый предатель. Как тут не вспомнить гоголевское: «полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит!». Но нет, не полюбит читатель этих героев, не встанет легко на путь, указанный Иешуа, останется во власти мессира и, скорее, разделит сатанинское веселье Коровьева и Бегемота, сочтя вполне справедливыми наказания, выпавшие на долю Лиходеева, Варенухи, Могарыча, Семплеярова и других, чем посочувствует им! Хотя судьба честного и ответственного бухгалтера Варьете Ласточкина, безвинно пострадавшего, – своего рода «подсказка» автора другу-читателю: присмотрись-ка к ним, разве ты не чувствовал себя во власти непреодолимых обстоятельств, разве ты не был снисходителен к собственным слабостям? Что же ты так нетерпим к этим персонажам?
В работах критиков и исследователей романа довольно часто звучит мысль о том, что Воланд вершит справедливый суд над погрязшими в многочисленных «грехах» советскими гражданами и таким образом «творит добро». Но так ли уж подобрел мир? Стал ли он более справедливым? В Эпилоге мы узнаем, что на место Римского в Варьете пришел Могарыч, что Семплеярова и Лиходеева всего лишь перевели на другие руководящие должности в другие города, что место Берлиоза скорее всего займет его зам и в организации все будет по-прежнему, нет сомнений и в том, что функции барона Майгеля найдут своих верных исполнителей. Варенуха стал вежливым? Весьма незначительный «добрый» итог. Зло не гасят злом – к такому выводу подводит читателя Булгаков, выстраивая далее сюжетные линии своего романа.
Глава «Великий бал у сатаны» предстает логическим завершением темы толпы / массы в сюжете романа о дьяволе. Интересно, что здесь появляется еще одна ее номинация – «съезд». Это слово Булгаков использует осторожно, всего единожды и в контексте исключительно «старорежимном»: «Законы бального съезда одинаковы, королева, – шептал Коровьев, – сейчас волна начнет спадать» (540), но в 1930-е гг. оно несомненно имело злободневный подтекст. Съезды партийные (1930, 1934, 1939 гг.), комсомольские (1931, 1936 гг.), профсоюзные (1932 г.), пи- сательские (1934 г.), колхозников (1934, 1935, 1937 гг.) – политическая реальность тех лет, а само слово «съезд» – одно из главных в словаре эпохи.
Вновь изменив художественную оптику и переведя действие романа в координаты вечного и бесконечного, остановив время и раздвинув пространство, Булгаков дает читателю возможность постичь саму суть феномена толпы / массы, снимает с нее флер обыденности и являет ее истинный лик:
«Снизу текла река. Конца этой реке не было видно. Источник ее, громадный камин, продолжал ее питать. Так прошел час и пошел второй час.
Ни Гай Кесарь Калигула, ни Мессалина уже не заинтересовали Маргариту, как не заинтересовал ни один из королей, герцогов, кавалеров, самоубийц, отравительниц, висельников и сводниц, тюремщиков и шулеров, палачей, доносчиков, изменников, безумцев, сыщиков, растлителей. Все их имена спутались в голове, лица слепились в одну громадную лепешку, и только одно сидело мучительно в памяти лицо, окаймленное действительно огненной бородой, лицо Малюты Скуратова» [1, с. 539].
Нескончаемая вереница злодеев всех времен и народов становится для Булгакова настоящим воплощением идеи зла, являя очевидную ему сущность любого скопления: толпы, массы, коллектива – и вступая в контроверзу с многочисленными панегириками советских поэтов и писателей, воспевающими величие этих масс.
В итоге мир зла в романе структурно предстает весьма «распространенной» и многоплановой конструкцией, в основании которой нечто аморфное, стихийно-агрессивное, гомогенное, при этом атомизированное, внутренне разрозненное – толпа, масса. Она есть питательная почва зла, среда обитания «мелких бесов» – гаеров, шутов, трикстеров, палачей, презирающих род людской и начисто лишенных сочувствия или сострадания; венчает эту «пирамиду» князь мира сего – Воланд, мессир, дух зла и повелитель теней, сатана, его роль – роль искусителя, соблазняющего человека видимостью своего всесилия и всеведения. Явным соблазном и искушением он предстает прежде всего для тех, кто и состав- ляет по Булгакову большинство, кто легко сбивается в толпу, легко управляемую безликую массу, становясь питательной средой и средоточием зла, кто, по словам одного из исследователей романа, «лишь марионетки в трагикомическом спектакле, устроенном Воландом и его свитой» [4, с. 19].
Удивительным свойством булгаковского текста становится его способность «тестировать» и читателя, быть для него своего рода зеркалом, в которое надо заглянуть и на которое, как мы помним, «неча пенять». Видеть в Воланде апологета справедливости или воплощение гуманистических идеалов автора – значит поддаться искусу мессира и выразить свое собственное, но отнюдь не булгаковское понимание метафизики добра и зла.
Что же противостоит в созданном Булгаковым романном мире видимому всевластию Воланда? Где границы его кажущегося могущества? Кто устанавливает их?
«Идея широкомасштабной социальной «хирургии» Булгакову чужда в принципе – ему свойственно предпочитать массе личность» [7, с. 10], с этим утверждением известного булгаковеда трудно не согласиться, тем более, что именно эта антитеза и определяет архитектонику романа: толпе у Булгакова противостоит личность, человек, с присущими именно ему качествами, недоступными массе, на них и делает ставку писатель-гуманист, продолжая полемику с Маяковским, утверждавшим: «Единица! / Кому она нужна?! / Голос единицы / тоньше писка. / Кто ее услышит?» [3].
В мире Булгакова именно Единица – человеческая индивидуальность и только она способна противостоять вселенскому злу, являясь источником добра, будучи наделенной способностью любить, творить и прощать. Эти черты и получают воплощение в трех героях. И если Воланд – князь «мира сего», то Иешуа Га-Ноцри, Мастер и Маргарита – герои явно «не от мира сего». Каждый буквально выпадает, выламывается из своей среды: Иешуа из ершалаимского мира старых ветхозаветных истин, Мастер – из литературной, МАССОЛИТовской, Маргарита – из обывательской московской.
Эти герои и составляют противовес «злу массы» , утверждая три важнейших в мире Булгакова человеческих качества: милосердие, любовь, творческую энергию.
Список литературы Метафизика зла в повествовательной структуре романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»
- Булгаков, М. А. Белая гвардия ; Мастер и Маргарита / М. А. Булгаков. - Киев : Молодь, 1989. - 668 с.
- Замятин, Е. Техника художественной прозы / Е. Замятин. - М. : РИПОЛ классик, 2018. - 232 с.
- Маяковский, В. В. Владимир Ильич Ленин / В. В. Маяковский // В. В. Маяковский. Стихи : сайт. - URL: https://www.culture.ru/poems/21248/vladimir-ilich-lenin.
- Петров, В. Б. Князь тьмы в системе ценностей Михаила Булгакова / В. Б. Петров // Вестник Приднестровского университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2018. - № 1 (58). - С. 13-20.
- Петровский, М. Два мастера. Владимир Маяковский и Михаил Булгаков / М. Петровский // Литературное обозрение. - 1987. - № 6. - С. 30-37.
- Покотыло, М. В. М.А. Булгаков и В.В. Маяковский: противостояние или влияние? / М. В. Покотыло // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - 2014. - № 1-2 (31). - С. 156-161.
- Яблоков, Е. А. Они сошлись / Е. А. Яблоков // Михаил Булгаков и Владимир Маяковский: диалог сатириков. - М. : Высш. шк., 1994. - С. 5-56.