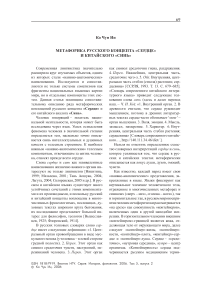Метафорика русского концепта «сердце» и китайского «синь»
Автор: Ко Чун Ин
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.5, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736754
IDR: 14736754
Текст статьи Метафорика русского концепта «сердце» и китайского «синь»
В русских толковых словарях слово сердце имеет следующие дефиниции: «1. Центральный орган кровообращения в виде мускульного мешка (у человека – в левой стороне грудной полости). 2. Перен. Этот орган как символ средоточия чувств, настроений, переживаний человека. 3. Перен. Этот орган как символ средоточия гнева, раздражения. 4. Перен. Важнейшая, центральная часть, средоточие чего-л. 5. Обл. Внутренняя, центральная часть стебля (ствола) растения; сердцевина» [ССРЛЯ, 1993. Т. 13. С. 679–685]. «Словарь современного китайского литературного языка» приводит следующие толкования слова синь (здесь и далее перевод наш. – Ч. И. Ко): «1. Внутренний орган. 2. В древности считали, что сердце руководит мышлением, поэтому в древних литературных текстах сердце часто обозначает ‘мозг’ – орган мышления. 3. Воля, эмоции. 4. Мысль, замысел, намерение. 5. Характер. 6. Внутренняя, центральная часть стебля растения; сердцевина» [Словарь современного китайского…, http://140.111.34.46/dict/ ].
Нельзя не отметить определенное сходство словарных интерпретаций сердце и синь , которое усиливается тем, что сердце в русских и китайских текстах метафорически описывается как локус души, духов, эмоций, чувств.
Как известно, каждый народ имеет свои «наивно-анатомические» представления, закрепленные в языке. Языки фиксируют как вертикальное членение человеческого тела, отраженное в многочисленных метафорах и символах («верх – низ», «голова – ноги»), так и горизонтальное: так, в русском мировосприятии человек метафорически рассматривается «на срезе» как совокупность «контейнеров», включенных один в другой наподобие матрешки. В горизонтальном членении внешним «контейнером»-границей является кожа, отделяющая тело от окружающего мира, далее следуют «контейнер»-жилы, «контейнер»-кости, «контейнер»-плоть, «контейнер»-сер-дце и «контейнер»-душа. Сердце – «средоточие», «нутровая середина», нутро – центр организма. «Контейнерность» сердца подчеркивается русским медицинским терми-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Том 5, выпуск 2 © Ко Чун Ин, 2006
носочетанием сердечная сумка . Китайский взгляд на человека более холистический, не такой дискретный.
В канонических духовных текстах сердце и синь приобретают дополнительные значения, не фиксируемые словарями.
Так, слово сердце обозначает в Библии сущность человеческой личности, «средоточие души и духа». По данным Г. Н. Скля-ревской, слово сердце упоминается в Священном Писании 750 раз и в справочнике «Ключевые понятия Библии» оно стоит в одном ряду с такими библейскими понятиями, как Бог, ангел, пророк, покаяние, жертва, святой, Церковь и т. п. «Понятие сердца как глубинного центра отражено в наиболее распространенном библейском значении: сокровенная глубина человеческой личности, определяющая все психическое и психологическое устройство человека целиком: его эмоциональный склад, все чувства, намерения, желания, волю, совесть, а также все процессы сознания, его ум, разум, мудрость и, главное, – его способность воспринять Бога, вступить в диалог с Ним, силу любви к Богу и к ближнему» [Скляревская, 2005. С. 5]. В текстах русского перевода Священного Писания слово сердце реализует 8 значений, большая часть которых не соответствует современным словарным: 1. Скрытая середина, центр, ядро чего-либо: Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи (Мф. 12:40). 2. Глубинная, сокровенная сущность человека; нематериальное божественное начало в человеке; душа как противоположность плоти: Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек (Пс. 72:26). 3. Внутренний мир человека («внутренний человек»); сам человек как носитель определенных психических и психологических свойств: От сердца; от чистого сердца; обратиться сердцем к кому-, чему-либо; испытывать сердца. 4. Орган религиозных чувств; орган познания Бога; хранилище заповедей Божиих в человеке: Закон Бога его в сердце у него (праведника) (Пс. 36:31); Всем сердцем моим ищу Тебя (Пс. 118:10); держаться Господа сердцем; правый сердцем. 5. Орган чувств, вместилище эмоций; центр и средоточие любви в человеке: я же уповаю на милость твою; сердце мое возрадуется о спасении Твоем (Пс. 12:6); Цель же увещания есть любовь от чистого сердца… (1 Тим. 1:5). 6. Орган желаний, воли: пришло на сердце кому-либо; вложить в сердце; положить на сердце кому-либо. 7. Орган мыслительной деятельности; сознание; ум, разум: в сердце своем; мыслить, помышлять в сердцах (своих); помышления сердца; говорить в (своем) сердце; положить на сердце своем, (себе) на сердце; слагать в сердце своем; приходить на сердце кому-либо. 8. Организм человека, его физические и физиологические свойства: хорошо благода-тию укреплять сердца, а не яствами (Евр. 13:9) [Скляревская, 2005. С. 9–42].
В конфуцианстве наличие синь рассматривается прежде всего как: 1) критерий отличия человека от животных; 2) показатель уровня личных достоинств, ср.: жэнь мен шо синь ‘жестокий, свирепый, лютый’ (букв. ‘зверь в образе человека’); фо коу ше синь ‘на языке – мед, а под языком – лед’ (букв. ‘облик – святого, а сердце – змеи’); лан синь гоу фей ‘бесчеловечный, неблагодарный’ (букв. ‘волчье сердце, собачье легкое’). Согласно конфуцианским критериям, человеком может считаться только тот, кто имеет «соболезнующее и сострадающее», «стыдящееся за себя и негодующее на других», «отказывающее себе и уступающее другому», «утверждающее и отрицающее» сердце: синь ци шо жуань ‘милосердие’ (букв. ‘сердце добро, рука мягка’).
Заметим, что и русская лексема милосердие обозначает отзывчивость сердца (человека), его способность к состраданию. Милосердие, в отличие от сердца и души, есть не у каждого человека, а только у доброго: Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу; сердце не камень. Семантически милосердие пересекается и с содержанием таких понятий, как любовь, верность, добросердечие и милость. При этом различаются милосердие Божье и милосердие человеческое. Милосердие Божье означает Божью бесконечную спасительную любовь, милосердие же человеческое в первую очередь вызвано состраданием, но зиждется на милосердии Божьем, неоднократно восхваляемом в Библии: Любовь рождается от веры и страха Божия, возрастает и укрепляется надеждою, приходит в совершенство благостию и милосердием, которыми выражается подражание Богу, как сказано в Евангелии: Будите милосерди, якоже и Отец ваш Небесный ми- лосерд есть (Лк. 6: 36), и еще сказано в Евангелии: милости хощу, а не жертвы (Мф. 12: 7). Милость и снисхождение к ближнему и прощение недостаток его – вашей жертвы, которая не принимается без мира к ближним, по слову Евангелия: Аще убо принесе-ши дар твой ко олтарю и ту помянеши, яко брат твой имать нечто на мя: остави ту дар твой пред олтарем и шед прежде сми-рися с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой (Мф. 5: 23–24) [Душеполезные поучения…, 2003. Т. 1. С. 382–383].
Для даосизма чрезвычайно важен тезис о детскости сердца как о выражении лучших человеческих качеств, в том числе высшей мудрости. В конфуцианстве понятию великого человека приписывается свойство «не утрачивать своего детского сердца», т. е. свойства чистоты и полноты восприятия, непосредственности реакций: чжи зы дж синь ‘добродушие’ (букв. ‘сердце красного ребенка’, новорожденный появляется на свет с кровью). Детская чистота символически отражается и в православной иконописи: покидающая тело праведная душа изображается в виде маленького беспомощного ребенка, часто спеленутого ( чистая, младенческая душа ).
В китайском буддизме, особенно в VI– IX вв., синь служило обобщающим выражением психических процессов и явлений, особенно при обращении к Богу: и бан синь сян ‘согласиться с кем-, чем-л., ‘преклоняться перед кем-, чем-л.’ (букв. ‘аромат лепестка сердечного цветка’). Синь стало и синонимом понятия «сознания-сокровищницы» – интегральной и высшей формы всех видов сознания: най синь уан ши ‘всегда думать об общественной деятельности’ (букв. ‘мое сердце находится в царском дворце’).
В духовных текстах русское сердце, как и китайское синь, прежде всего, наименование органа религиозных переживаний. «Точное описание этого значения дает Б. П. Вышеславцев: “Необходимо признать сердце основным органом религиозных переживаний”. Развивая и углубляя эту мысль, он приходит к выводу о том, что только сердце как орган мистической связи с Богом делает возможными подлинную гуманность и подлинное самосознание: “В простоте и доступности этого слова ‘сердце’, этого символа, постоянно присутствующего в простой разговорной речи, – его высокая религиозная ценность. Человек ‘без сердца’ есть человек без любви и без религии, безрелигиозность есть в конце концов бессердечность. Неправда, будто существует какая-то безрелигиоз-ная сердечность в форме гуманности, солидарности, классового сознания и т. п. Самые большие преступления были совершены ради такой гуманности, были оправданы декламациями о любви к человечеству, риторикой в духе Руссо и Робеспьера”» (цит. по: [Скляревская, 2005. С. 18–19]). В Евангелии сказано также, что сердце есть орган, с помощью которого мы созерцаем Бога и осознаем богоданную жизнь, ср.: Вы упомянули о любви вашей к Богу, что сердце ваше пламенно горит любовию к Богу [Душеполезные поучения…, 2003. Т. 1. С. 387].
С одной стороны, сердце – точка соприкосновения человека с Богом, орган, устанавливающий личную связь с Ним, поэтому в сердце может быть сосредоточено все лучшее, драгоценное, что есть у души (ср. с поэтической метафорой Баратынского в святыне сердца ). В святоотеческой литературе призыв любить Господа обращен в первую очередь к сердцу и только затем – к душе, воле и разуму: Искреннее желание служить Господу Богу и вручение всецело и себя, и всего, и всех в волю Божию, всеблагую, совершенную, приносят сердцу мир Божий, даже при переживании различных скорбей, и внешних и внутренних, душевных. <...> Предавай себя, свою душу и тело, свои обстоятельства, и настоящие, и будущее, предавай близких сердцу , ближних твоих воле Божией, всесвятой и премудрой [Душеполезные поучения..., 2003. Т. 1. С. 134]. В русских народных духовных стихах в соответствии с символикой Нового Завета выражена идея о сердце как об органе любви к Богу: именно сердце принимает «духовное решение» об отношении к Богу, избирая веру в Него или непослушание Ему. В поздних авторских поэтических текстах сердце метафорически описывалось как источник света, освещавший жизненный путь, как священное место, позволявшее познавать истину: олтарь сердец (Ломоносов); жертвенник , сгоревший от огня (Лермонтов); кадильница (Бунин); светильник (Козлов); светоем (Белый); свечки восковые (Гумилев) [Словарь языка поэзии…, 2004. С. 486].
В русской духовной литературе отражена также символика сердца – открытой книги .
От меры открытости сердца-книги во многом зависит, придет ли человек к вере, покаянию и обращению, и только Богу подвластно сотворить чистое сердце, только Ему под силу раскрыть его для пробуждения веры. Именно сердце побуждает человека совершить тот или иной поступок: ничего не скрывай и не утаивай от святой и преподобной Матери своей. Сердце твое пред нею, как книга раз-гнутая , да будет всегда раскрыто ; само-смышлению своему не верьте ни в чем [Душеполезные поучения…, 2003. Т. 2. С. 91]. Заметим, что круг поздних «книжных» метафор, характеризующих чистое состояние сердца человека, в поэтических текстах был расширен: альбом тот – сердце юной девы (Бенедиктов), альбом открыток благороднейший (Маяковский), свиток сердца (Державин), свиток чудотворный (Блок) [Словарь языка поэзии…, 2004. С. 486].
Более того, в поздних художественных текстах сердце-«контейнер» постоянно описывалось предметными метафорами, в том числе культурно важными архитектурными, характеризующими освоенное «внутреннее пространство»: нежилого сердца дом (Мандельштам), храмина сердечная (Фет), тесные келейки – наши сердца (Цветаева), святилище сердец (Якубович), келья тайная (Лермонтов), сердце - склеп (Брюсов), храм сердца (Долгорукий, Бенедиктов, Ходасевич, Случевский), усыпальница (Слу-чевский), кладезь (Батюшков), причем поэтическое сердце-«дом» имеет подвалы, стены, углы, уголки, двери, дверцы, ставни, ключи ; артефактными: чаша (Клюев), ларец, сундук (Ходасевич), тайник (Вяземский, Якубович, Бенедиктов), улей (Гумилев); реже – натурфактными: дупло (Клюев), ущелья сердец (Бенедиктов). При этом в сердце также имеется пространство: бездна сердца (Кюхельбекер), внутренность сердца (Голицын), глубина сердца (Анненский, Апухтин), глубь сердца (Кусков), дно сердца (Тургенев), недра сердца (Льдов), сердце сердца (Кузмин) [Там же. С. 485–487].
Метафорическая идея о сердце – чистом локусе отражена и в китайском языке. В древнекитайской литературе синь часто сопрягалось с духом (шэнь – субстанцией, отвечающей за деятельность сознания и психики): синь шэнь бу нин ‘испытывать душевное смятение’ (букв. ‘сердце и дух волнуются’). При этом синь – это ‘дворец духа’; лишь при условии «очищения сердца» и освобождения от страстей дух возвращается в свое обиталище: си синь гы мэн ‘исправиться и стать новым человеком; в корне перемениться’ (о человеке) (букв. ‘умывание сердца, изменить облик’).
В то же время сердце – это греховный источник, локус темных сил: Следи за движением своего сердца и излагай возникающие страсти, а паче гордости, гнева, ярости, зазрения и осуждения ближних [Душеполезные поучения…, 2003. Т. 2. С. 267]. Даже если в поздних поэтических описаниях сердца упоминались богатства (Ходасевич), жемчужины (Майков), перлы (Бенедиктов), казна сердечная (Пушкин), клад (Ходасевич) [Словарь языка поэзии…, 2004. С. 485], то, как правило, лирический персонаж или автор не были довольны тем, как ими распоряжаются. Более того, в русской поэзии темные демонические силы, прячущиеся в сердце, и все, что могло вносить дисгармонию в духовный и эмоциональный мир, характеризовались бестиарно: зверь загнанный (Гумилев), крокодил (Батюшков, Бенедиктов), чудовище (Бенедиктов, Соловьев) [Там же].
В русских фольклорных текстах сердце обычно именуется ретивым , т. е. скорым на гнев или движения чувств. При этом сердце – средоточие эмоций противопоставляется голове – вместилищу разума: большое сердце у кого ; дума, печаль, грусть и т. п . лежит на сердце; сердце взыграло; сердце в пятки уходит; сердце дрожит; сердце екает; сердце закатывается; сердце заходится; сердце захолонуло; сердце ноет; сердце обмирает; сердце покатилось; сердце прыгает; сердце радуется; сердце сжимается; сердце рвется пополам; сердце щемит; с замирающим сердцем; сердце делу не в помощь; ржа железо ест, а печаль – сердце . Сердце – вместилище страсти и прочих эмоций, орган любви ( отдавать сердце; открывать сердце; покорять сердце; войти в сердце; находить доступ к сердцу; сердцу не прикажешь; предлагать руку и сердце; друг сердца ) и других чувств. В фольклорных текстах сердце выступает как наименование всего того, что связано с природной, стихийной частью внутреннего мира человека.
Cинь в китайских текстах также именует эмоции человека, но в связи с его мыслительной деятельностью, психическим и телесным складом, чувствами, волей, осо- бенностями характера и нравственности. Для китайских текстов в большей степени свойствен холистический взгляд: синь дань цзюй ле ‘душа разрывается’ (букв. ‘сердце и желчный пузырь полностью разрываются’); синь фань и луань ‘мутно на душе; кошки скребут на душе’ (букв. ‘душа расстраивается, воля в беспорядке’); синь хуа ну фань ‘душа встрепенулась от радости; душа радуется’ (букв. ‘сердечные цветы буйно расцвели’); синь жу дао гэ ‘как ножом по сердцу (букв. ‘сердце как нож режет’); сердце обливается кровью от чего-л.’; синь хуай бу мань ‘затаить недовольство против кого-л.; иметь сердце на кого-л.’ (букв. ‘душа держит неудовлетворение’); синь цин чэнь чжун ‘тяжелое, мрачное, минорное настроение; с тяжелым сердцем / чувством, с тяжестью на душе, с камнем на душе’ (букв. ‘душевное состояние тяжелое’); коу жэнь синь сянь ‘затронуть струны сердца; брать за душу / за сердце’ (букв. ‘затронуть сердечную струну человека’).
Сердце и душа тесно связаны. Еще славяне-язычники признавали в человеческой душе проявление той творческой силы, без которой невозможна жизнь на земле, аналогичное отношение к душе отражено и в канонических христианских текстах. С религиозной, христианской точки зрения душа связывает человека с высшим духовным началом, тем самым повышая собственную ценность. В словаре В. И. Даля душа (ψυχή) определяется следующим образом: «Бессмертное духовное существо, одаренное разумом и волею; в общем значении человек, с духом и телом; человек без плоти, бестелесный, по смерти своей; в смысле же теснейшем» [Даль, 2001. Т. 4. С. 835]. Душа – олицетворение жизненных процессов человеческого организма, элемент мифологических представлений, если не рассматривать ее с позиций веры. Природа души совершенно отличается от природы тела, поскольку, создавая душу творческим духновением 1, Бог не взял ничего от земли, душа принадлежит Богу всегда, их связь постоянна. Человек же владеет ду- шой временно: отдать Богу душу; Бог души не вынет, сама душа не выйдет; жив Бог – жива душа моя. Поэтому суть души и сердца не одна и та же: душа бессмертна, а материальные сердца превращаются в прах.
По народным представлениям, душа локализуется в сердце или в грудной клетке в области сердца. Душа – двойник человека при его жизни, а при его смерти она покидает тело с последним выдохом умирающего ( душа с телом расстается; еле-еле душа в теле ), принимая облик ветерка, пара, дыма или бабочки, мухи, птицы. Птица – непременный атрибут райского локуса. Душа трепещет в сердце, как маленькая птичка, бабочка, может улететь, отлететь, поэтому метафорометонимически сердце – локус души описывается через орнитонимы, инсектонимы, ср. поэтические характеристики сердца: пташка испуганная (Плещеев), птенец (Анненский), птенчик (Белый), птица забвений легкая, летящая, пойманная (Блок, Цветаева), птичка серая (Сологуб, Волошин); опаленные крылья (Фет), крыло вещих птиц в груди (Анненский), крылья сердца (Кузмин); чайка (К. Р.), жар-птица (Городецкий); бабочка сердца (Маяковский), муха в сетях паука (Г. Иванов) [Словарь языка поэзии…, 2004. С. 486].
Однако, в отличие от души , сердце представляется лишь органом чувств и связанных с ними желаний человека, но не его внутренней жизни в целом: сердце просит и т. д. Чувства, олицетворением которых является сердце, возникают как бы сами по себе, независимо от конкретных внешних обстоятельств, и человек может интуитивно постичь то, что произойдет в будущем. Например: чувствует сердце ; как будто слышит сердце ; сердце вещун: чует и добро и худо .
Итак, сердце употребляется преимущественно в переносных (метафорических или метафоро-метонимических) значениях. В прямом значении сердце – это ‘жизненно важный орган’. Сердце в праславянском языке – * sьrdьko , как и * sъlnьko (солнце), содержит уменьшительный суффикс -к- [Фасмер, 2004. Т. 3. С. 605]. Таким образом, сердце этимологически представляется как маленькое солнце в человеке, небесное светило, почитавшееся славянами как источник жизни, тепла и света.
Сердце – средоточие жизненной силы: горячее сердце, сердце горит, сердце кипит – эти словосочетания являются показателями значительной концентрации жизненных и эмоциональных сил человека. Теплота – признак живого человека, холод – мертвого. Однако, в отличие от души, сердце связано с реальным органом человеческого тела – центральным органом кровообращения, находящимся в левой стороне груди: где зазвенит (т. е. направо, налево), туда сердце лежит. Воображаемый же орган эмоциональной жизни наделяется свойствами реального сердца. Сердце как вместилище чувств не только имеет определенное место, но и может мыслиться как нечто инородное: камень, весь разбитый (Тредьяковский), кора сердца мерзлая, лед (Бенедиктов), осколок стеклянный (Цветаева), слиток ледянис-тый (Белый), иногда описывается механистическими метафорами: машинка для чудес (Анненский), молот сердца (Бенедиктов), моторы (Маяковский) [Словарь языка поэзии…, 2004. С. 486–487]. Кроме того, сердце как орган чувств ассоциируется с кровью, ср.: писать кровью сердца, сердце кровью обливается, сердце кровью поднывает.
Крови отводится главная роль в жизнедеятельности человеческого организма. Это не только важнейшая внутренняя субстанция тела, с ее состоянием связываются и внешний облик человека, его здоровье; о здоровых людях говорят: кровь с молоком . Народные представления о крови прежде всего основаны на ее внешних признаках. Науки о кровообращении в праславянской древности не существовало, и представление о видимой струящейся крови, вероятно, отождествлялось с одним из материальных природных объектов – водой. Вода жива, потому что течет, она имеет динамическую жизнедеятельность, а это другой жизненный признак. Болезнь, проникнув в тело человека, движется по сосудам к сердцу и, если достигает его, приводит человека к смерти. Представление о движении болезней к сердцу отражено в пословицах: что ни болит, все к сердцу валит; всякая болезнь к сердцу.
Метафорики сердца и синь имеют много общего, что позволяет китайцам легко реконструировать русские метафорические образы. Этому способствует и дискретность русских «наивно-анатомических» представлений. Однако традиционный китайский холистический взгляд на человека усложняет точное понимание русскими китайских метафор сердца. Видимо, отсутствие холистического взгляда на человека делает невозможным определение и некоторых метафорических характеристик русского слова сердце, выраженных в текстах. Как и у китайского слова синь, у русского сердце можно выявить метафоро-метонимическое значение ‘жизненная энергия, сила’, не отмеченное толковыми словарями.
Принятые сокращения цитируемых библейских книг
Евр. – Послание к евреям
Лк. – Евангелие от Луки
Мф. – Евангелие от Матфея
Пс. – Псалтирь
1 Тим. – Первое послание к Тимофею