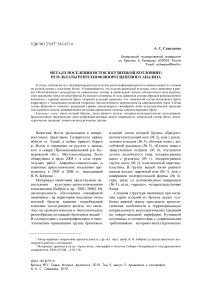Металл поселения исток в Кузнецкой котловине: результаты рентгенофлюоресцентного анализа
Автор: Савельева Анна Сергеевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований, охрана археологического наследия
Статья в выпуске: 5 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье публикуются и интерпретируются результаты рентгенофлюоресцентного анализа вещей из сплавов на медной основе с поселения Исток. Устанавливается, что изделия ирменской культуры этого памятника в рамках Обь-Енисейского междуречья по химическому составу в наибольшей степени соответствуют металлургическим традициям эпохи поздней бронзы Кузнецкой котловины. В ходе сравнения состава образцов раннежелезного комплекса с сериями анализов бронз тагарской культуры выявлено, что химический состав истоковских бронз коррелирует с тенденциями развития тагарского бронзолитейного производства на сарагашенском этапе. Состав сплава бронзового элемента лошадиной упряжи демонстрирует своеобразие иной металлургической традиции эпохи раннего железа, развивающейся на основе применения сложных цинкосодержащих бронз.
Эпоха поздней бронзы, эпоха раннего железа, историко-металлургические исследования, бронзолитейное производство, рентгенофлюоресцентный анализ поверхности, химический состав бронз, металлургические традиции, химико-металлургические группы
Короткий адрес: https://sciup.org/14737308
IDR: 14737308 | УДК: 903.2"637":543.427.4
Текст научной статьи Металл поселения исток в Кузнецкой котловине: результаты рентгенофлюоресцентного анализа
Памятник Исток расположен в северовосточных предгорьях Салаирского кряжа, вблизи оз. Танай, в пойме правого берега р. Исток и ограничен ее руслом с запада, юга и севера (Промышленновский р-н Кемеровской обл.). Местонахождение было обнаружено в июле 2005 г. в ходе строительных работ. Аварийно-спасательные и плановые археологические изыскания проводились в 2005 и 2006 гг. экспедицией В. В. Боброва 1.
Материалы памятника представлены несколькими культурно-хронологическими комплексами [Бобров и др., 2005; 2006]. Их неоднородность обусловлена спецификой памятника – на территории поселения эпохи поздней бронзы выявлен погребальный комплекс эпохи раннего железа, что сказалось на хронологическом и типологическом разнообразии коллекции бронзовых вещей 2. В соответствии с планиграфическим и типологическим принципами группу бронзовых изделий эпохи поздней бронзы образуют: вытянутопетельный нож (№ 2), нож с разделенным кольцом (№ 3), обломок ножа с желобчатой рукоятью (№ 5), обломок ножа с закругленным острием (№ 6), втульчатое долото желобчатого типа, четырехгранное шило с рукоятью (№ 1), четырехгранное гнутое шило (№ 2), пластинчатый перстень, пластина. В группу вещей эпохи раннего железа входят: дырчатый нож (№ 1), нож с навершием подтреугольной формы (№ 4), серп, шило со шляпковидным навершием (№ 3), игла, «зеркало», четырехлепестковая бляха.
Сложная структура памятника при наличии серии изделий из бронзы делает особенно важной задачу проследить хронологические особенности и территориальную направленность металлургических традиций на северо-западной периферии Кузнецкой котловины в соответствии с современными требованиями историко-металлургических исследований, т. е. с привлечением данных естественно-научных методов.
Состав сплава бронзовых вещей был установлен методом рентгенофлюоресцентного анализа (РФА) поверхности. Каждый образец анализировался не менее двух раз, за итоговый принимался состав, демонстрирующий наименьшее влияние окислительных процессов, т. е. более низкие концентрации олова и свинца (см. табл.). Исследование металла целых ножей, «зеркала», долота, серпа, бляхи и кольца произведено на приборе Альфа-2000 (кафедра археологии, этнографии и музеологии АлтГУ, аналитик д-р ист. наук А. А. Тишкин 3). Им анализировался участок поверхности изделия, зачищенный от патины. С целью сравнения полученных результатов в рамках хронологических групп привлекались результаты энергодисперсионного анализа (ЭДА) остальных бронзовых вещей, произведенного в Центре коллективного пользования Кемеровского научного центра СО РАН 4 на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM-6390 LA (аналитик С. Ю. Лырщиков). Проба представляла собой «чешуйку» размером не более 2–3 мм, механически зачищенную до блеска. Подсчет содержания элементов оба прибора осуществляют по принципу фундаментальных параметров. Обе методики – рентгенофлюоресценции и энергодиперсии – предназначены для спектрального анализа характеристического вторичного излучения, отличаясь техникой выбивания электронов из орбит атомов элемента. В приборе Альфа-2000 необходимый эффект достигается при воздействии рентгеновским излучением, в то время как в аналитическом микроскопе JEOL JSM-6390 LA эта задача выполняется электронным лучом. С целью сравнения результатов, выдаваемых двумя приборами при анализе одних и тех же образцов, были проанализированы серп и бляха. Результаты анализов свидетельствуют о том, что при некоторых отличиях в количественных показателях концен- траций элементов (на уровне десятых долей процента) качественно чувствительность аппаратуры кардинальных отличий не имеет, что позволило в обоих случаях отнести анализируемый металл к одинаковым химико-металлургическим группам, однако при описании данных, полученных в ходе анализов, результаты разных систем микроанализа принято рассматривать обособленно.
Дальнейшие описание и интерпретация результатов исследования химического состава бронзовых вещей осуществлены по хронологическому принципу.
В серии образцов эпохи поздней бронзы различия в концентрациях мышьяка позволяют выделить три группы сплавов. Первая – без мышьяка – включает перстень; два предмета демонстрируют в составе сплава искусственную лигатуру мышьяка – 2 и 3 % (долото и нож № 3); в ноже № 2 обнаружена естественная примесь мышьяка – примерно 0,2 % (следы). Тот же набор групп образуют результаты ЭДА: не содержат мышьяк шило № 2 и пластина; с естественной примесью сплав ножа № 5; искусственная примесь фиксируется в составе сплавов шила № 1 и ножа № 6. Известно, что присадка мышьяка способствует повышению качеств ковкости, твердости и жидкотекучести.
Коэффициент корреляции между мышьяком и сурьмой (0,95) указывает на практически полную взаимозависимость этих элементов, потому правомерно считать всю сурьму в изделиях эпохи поздней бронзы естественной рудной примесью, ассоциированной с мышьяком. На этом основании сплав шила № 2, в котором фиксируется почти 2 % сурьмы, по всей видимости, следует причислять к группе «чистой» меди. Между тем мышьяковые сплавы с повышенным содержанием сурьмы все же будем квалифицировать как мышьяковисто-сурьмянистые бронзы (хотя присадка сурьмы в них не была намеренной), поскольку концентрация сурьмы более 1 % придает сплаву новые качественные характеристики по сравнению с простым легированием меди мышьяком.
Комплексное введение в сплав мышьяка и сурьмы, по всей видимости, следует объяснять доступом к так называемым блеклым рудам. В группу блеклых руд объединяют «сложные сульфосоли сурьмы и мышьяка», связанные между собой постепенными переходами по составу, близкими внешними
Химический состав изделий из сплавов на медной основе с памятника Исток, по данным РФА (в процентах)
Для уточнения природы свинца в сплавах были составлены корреляционные графики концентраций свинца и некоторых других примесей к меди. Наибольший коэффициент корреляции показала пара свинец – железо, для которой он составил 0,54. Это позволяет предварительно считать весь свинец в анализируемой коллекции естественной примесью (от 0,28 до 1,08 %), ассоциированной с железом. При ЭДА шилья № 1 и 2, а также нож № 6 показали отсутствие свинца.
В одном образце – ноже № 5 – в качестве естественной примеси при ЭДА фиксируется 0,35 % серебра, что указывает на геохимические особенности руды. Примесь железа фиксируется в большинстве образцов, проанализированных РФА (от 0,07 до 0,66 %) и, напротив, большинство результатов ЭДА демонстрируют отсутствие железа.
Олово присутствует лишь в металле ножа № 6 (4,78 %) (ЭДА). В нем же – повышенная концентрация никеля – 1,38 %, что можно считать естественной примесью.
Исходя из качественных характеристик примесей к меди в коллекции эпохи поздней бронзы с памятника Исток были выделены химико-металлургические группы (рецепты) сплавов.
Группа «чистой» меди объединяет 5 изделий: нож № 2, с естественными примесями свинца и мышьяка; перстень, с рудными примесями железа и свинца; «пластину», с примесью свинца – 0,79 %. Из «чистой» меди, с содержанием сурьмы в 1,98 %, изготовлено и шило № 2. Наконец, нож № 5 также изготовлен из «чистой» меди, однако содержит гораздо большее количество естественных рудных примесей – свинец, сурьму, мышьяк, железо и серебро. Разнородный набор геохимических примесей к меди позволяет предполагать, что все вещи изготовлены из металла разных отливок, причем не только из руды разных источников, но и с использованием лома медно-бронзовых изделий.
Мышьяковисто-сурьмянистая бронза включает два образца: нож № 3, с естественными примесями свинца и железа, и шило № 1. Остальные типы сплавов представлены единичными примерами. Долото изготовлено из мышьяковистой бронзы, с примесями сурьмы и железа и повышенной концентрацией свинца, что могло стать результатом не только его перехода из медной руды с высоким содержанием свинца, но и присадки к обычной медной руде (малахиту, азуриту и др.) руды на свинец – галенита. Легирование меди и мышьяком, и свинцом одновременно практиковали, например, древние металлурги Минусинской котловины [Бобров и др., 1997. C. 37–38].
Сплав ножа № 6 является оловянисто-мышьяковистой бронзой (олова 4,78 %, мышьяка 1,13 %), с примесью никеля.
Таким образом, в серии вещей эпохи поздней бронзы преобладают медные изде- лия, ведущим легирующим компонентом бронзовых сплавов является мышьяк, а главными естественными рудными примесями выступают сурьма, свинец и железо. Анализируемая серия немногочисленна, поэтому однозначно интерпретировать полученные результаты было бы преждевременно. Однако некоторые наблюдения в отношении подмеченных тенденций сделать все же можно.
Наличие в значительных количествах мышьяка в ассоциации с сурьмой – характерная черта Минусинского металла, обусловленная его высоким содержанием в местной медьсодержащей руде [Хаврин, 2007. C. 115; Пяткин, 1977. C. 30–31]. Однако зафиксированные нами закономерности для металлопроизводства ирменской культуры не просто прямо указывают на рудные источники, а хорошо вписываются в общую для Евразийской металлургической провинции картину, сложившуюся в конце бронзового века и подробно описанную в коллективной монографии В. В. Боброва, С. В. Кузьминых и Т. О. Тенейшвили [1997. С. 58–59]: по их мнению, в этот период наблюдается явная активизация производственной деятельности в саянских центрах, вызвавшая заметный приток саянской мышьяковой меди и мышьяково-сурьмяных бронз и готовых изделий, помимо прочего, в ирменские объединения Обь-Енисейского междуречья.
Это означает, что зафиксированную нами картину ирменского бронзолитейного производства по материалам памятника Исток можно считать отвечающей общей направленности развития цветной металлургии Обь-Енисейского междуречья в эпоху поздней бронзы. Мы же можем лишь попытаться установить сходство выявленного распределения химико-металлургических групп с набором рецептур, известных на других памятниках ирменской культуры. Нашу серию в значительной степени отличает преобладание изделий из «чистой» меди. Это позволяет предварительно заключить, что ирмен-ский металл с памятника Исток по химическим характеристикам тяготеет к памятникам эпохи поздней бронзы центральных районов Кузнецкой котловины, где известны не только сурьмяно-мышьяковые, но и оловянно-мышьяковые бронзы, а также медные изделия [Бобров, 1997. C. 75].
Коллекция бронзовых вещей эпохи раннего железа включает семь предметов, из них шесть атрибутированы тагарской культурой. Тагарская серия демонстрирует качественное единство – наличие олова – от 1,21 до 21,02 %. Количественные вариации позволяют выделить низкооловянистые (1,21 и 7,29 %) и высокооловянистые (16,59–21,02 %) бронзы.
Известно, что присадка олова ведет к повышению показателей тягучести, однако чем его больше, тем более хрупким становится изделие. Оптимальным принято считать концентрацию олова в 4–6% – это условие хорошей ковкости и максимальной твердости бронзы, в нашем случае ему отвечает сплав «зеркала».
Легированные оловом сплавы предполагают использование в бронзолитейном производстве единственного оловосодержащего природного минерала – касситерита. Он относится к числу минералов средней степени распространенности, накапливается в россыпях и не ассоциирован с медью [Минералы…, 1970. C. 100–102]. Например, для Минусинской котловины ближайшими источниками касситерита принято считать Калбо-Нарымский хребет на западе и Забайкалье на востоке [Пяткин, 1977; Сергеева, 1981].
Все вещи в той или иной концентрации, вне зависимости от метода анализа, содержат свинец, причем лишь в металле серпа и шила № 3 его можно считать естественной рудной примесью – 0,75 и 0,78 % соответственно. Наибольшее содержание свинца – 4,42% – в металле иглы.
Интерпретация результатов, фиксирующих наличие в сплаве свинца, пожалуй, наиболее проблематична. Во-первых, определить сознательный характер его присадки довольно трудно, поскольку при выплавке меди несколько процентов свинца могло попадать в металлическую медь естественным путем [Хаврин, 2007. C. 120; Бобров и др., 1997. C. 37–38]. В пользу такого заключения свидетельствует и тот факт, что в медных позднебронзовых изделиях с поселения Исток свинец также присутствует. Однако известны и примеры искусственной присадки свинца. Так, на поселении Березовая Лука (эпоха ранней бронзы Алтая) были обнаружены свинцовые серьги. Авторы пришли к выводу о том, что «свинец выплавлялся не из комплексных (полиметал- лических руд), а из чисто свинцовых или серебросвинцовых» [Кирюшин и др., 2005. C. 124], причем добыча руды на свинец могла вестись с целью замены дефицитного олова [Селимханов, 1970. C. 73].
Наконец, интерпретируя результаты анализа металла, следует учитывать поведение свинца как составляющей сплава, в котором протекает множество химических и термических процессов. Трудности, связанные с фиксацией свинца в бронзах при РФА W. T. Chase и J. G. Douglas (США) свели к следующему: «концентрация свинца уменьшалась в ходе переплавок и увеличивалась в результате коррозии поверхности. Кроме того, свинец имеет свойство “растекаться” по поверхности при полировке. Все эти факторы, на фоне высокой степени восприимчивости свинца к рентгеновскому излучению, искажают результаты анализа» [Chase, Douglas, 1997. P. 309].
Подобные сложности в историографии историко-металлургических исследований авторы преодолевают по-разному. Так, методика интерпретации результатов спектрального анализа, избранная И. В. Богдановой-Березовской, предполагает по концентрациям свинца выделять лишь металлургические подгруппы [Богданова-Березовская, 1963]. С. В. Кузьминых в некоторых публикациях условно относит сплавы с повышенным содержанием свинца к мышьяковым бронзам [Бобров и др., 1997. C. 37]. Мы же при анализе поступим в соответствии с той же логикой, что и в случае с сурьмой в позднебронзовой серии – учитывая изменения свойств сплава. Известно, что «присутствие в меди даже незначительных содержаний свинца иногда делает невозможным горячую ковку», хотя и увеличивает качества тягучести [Селимханов, 1970. C. 73]. Следовательно, свинец влияет на свойства сплава, и мы будем воспринимать его как лигатуру, не делая утверждений о намеренной или случайной ее природе. Косвенно то, что присутствие свинца носит естественный характер и он не был добавлен в шихту в виде свинцовой руды, подтверждает отсутствие в анализируемом металле важнейших примесей галенита (руды на свинец) – серебра и висмута [Минералы…, 1970. C. 53].
Коэффициенты корреляции мышьяка и олова 0,89, мышьяка и свинца – 0,73. Они указывают на геохимическую взаимосвязь в этих парах элементов. Все образцы содержат естественную рудную примесь железа – от 0,09 до 0,42 %. Коэффициент корреляции в паре олово – железо, составляющий 0,57, объясняется их геохимической взаимосвязью [Там же. C. 100–101].
Зеркало и нож № 4 содержат в качестве естественных примесей 0,6 и 0,7 % никеля, причем в этом же ноже и в составе сплава серпа фиксируется наличие рудных примесей титана – 0,23 и 0,12 % соответственно.
Исходя из качественных характеристик примесей к меди в коллекции эпохи раннего железа с памятника Исток были также выделены химико-металлургические группы (рецепты) сплавов.
Оловянисто-свинцовистой бронзой является сплав ножа № 1. Источник руды для его составления характеризуется наличием мышьяка и железа. «Зеркало» анализировалось дважды – в области диска и петельки. Диск демонстрирует высокую концентрацию олова – 7,29 %, а также повышенное содержание свинца – 1,1 %, на уровне рудных примесей присутствуют мышьяк, железо и никель. Количественные показатели элементов в металле петельки имеют тот же порядок, за исключением концентрации олова, которая достигает 16,59 %. Вероятно, это свидетельствует о том, что части «зеркала» изготовлены из разных отливок, т. е. для петельки был составлен специальный сплав большей прочности. Нож № 4 также изготовлен из оловянисто-свинцовистой бронзы с естественными примесями мышьяка, железа, никеля и титана. Игла, проанализированная методом ЭДА, демонстрирует высокие концентрации олова – 9,04 % и свинца – 4,42 %, что позволяет также считать сплав оловянисто-свинцовистой бронзой с естественными примесями мышьяка и железа, т. е. набор элементов в сплаве сходен с составляющими металла ножа № 1.
В составе металла серпа искусственной присадкой может считаться только олово – 1,21 %, а остальные элементы (свинец, железо и титан) – естественными рудными примесями. Из оловянистой бронзы изготовлено и шило № 3 (ЭДА) с рудными примесями мышьяка, свинца и железа.
Таким образом, в тагарской серии преобладающим типом сплава является оловяни-сто-свинцовистая бронза, ведущая лигатура – олово, а преобладающие рудные примеси – железо и мышьяк. Выявленные рецепты бронзовых сплавов эпохи раннего железа характерны для сарагашенского этапа тагарской культуры [Хаврин, 2007. C. 121]. Территориально ближайшая к исто-ковской тагарская серия, проанализированная химически, происходит из Ачинско-Мариинской лесостепи, т. е. из северо-западного района тагарской культуры, и включает материалы могильников Ягуня, Кондрашка и Пичугино [Мартынов, Богданова-Березовская, 1966]. При сравнении наших материалов с анализами 1960-х гг. установлено, что при единстве химико-металлургических групп диагностические примеси – отсутствие в истоковских материалах висмута, серебра, сурьмы и зачастую никеля, указывают на весьма существенные отличия рудных источников. Та же ситуация обнаружилась при обращении к данным Минусинской котловины [Богданова-Березовская, 1963]. При сравнении с результатами, полученными по тагарским бронзам Хакасии и Тувы С. В. Хавриным [2000; 2001; 2003а; 2003б; 2005 и др.], диагностирующим признаком было избрано отсутствие сурьмы, серебра, цинка и висмута в оловянистых и оловяни-сто-свинцовистых бронзах. Этим условиям отвечает часть проанализированной им серии из 72 вещей могильника Катюшкино в Ширинском районе Хакасии [Хаврин, 2007]. В ней 9 предметов (12,5 %) отвечают предъявленным требованиям [Там же. C. 118–119, табл. 2, 3], т. е. раннежелезный комплекс памятника Исток по химическому составу тяготеет не к бронзам близлежащей Ачинско-Мариинской лесостепи, а к некоторым металлургическим традициям тагарской эпохи Хакасии.
Наконец, обратимся к составу петельки и самой бляхи. Они качественно сопоставимы и демонстрируют наиболее сложную картину. Искусственной лигатурой являются сурьма – до 6,1 %, свинец – до 5,21 % и мышьяк – 2 %. В качестве естественных примесей металл бляхи содержит цинк – до 0,52 % и железо до 1,74 %. Бляха отлита из многокомпонентной сурьмянисто-свин-цовисто-мышьяковистой бронзы с высокими концентрациями железа и цинка, что в значительной степени и отличает ее от бронз тагарского облика. Отличительная особенность состава бляхи от прочих сплавов раннежелезной серии – наличие сурьмы в сочетании с мышьяком. По мнению Т. Н. Троицкой и В. А. Галибина, это явле- ние в пору оловянных бронз (в нашем случае олово заменяет свинец) следует объяснять стоящей перед литейщиком задачей – придания вещам неутилитарного назначения специфического свойства – нетускнеющего блеска [Троицкая, Галибин, 1983. С. 40].
Поскольку концентрация цинка в сплаве невысока, говорить о нем как об искусственной лигатуре не приходится, можно лишь предположить, что имела место вторичная переплавка высокоцинковой меди [Барцева и др., 1972. C. 57] или же использовано цинкосодержащее рудное сырье. Начиная с эпохи бронзы мышьяково-цинковые бронзы получали на Темирских и Юлинских рудниках в Минусинской котловине [Бобров и др., 1997. C. 51]. По данным, приводимым Я. И. Сунчугашевым, химический анализ образцов медной руды у гор Посельщик и Темир-таг показал, помимо прочих элементов, наличие железа, свинца и цинка [Сунчугашев, 1975. C. 36]. Древнейшие медные рудники Темирского месторождения датированы именно эпохой раннего железа – VII–III вв. до н. э. [Там же. C. 41]. Таким образом, диагностические характеристики химического состава бляхи, на современном уровне представлений о рудной специализации древности, указывают на восточное происхождение рудного сырья (особенно отсутствие в сплаве олова).
Историография изучения археологических бронз естественно-научными методами ведет отсчет с 1960-х гг. За это время претерпели изменения и методы анализа (от спектральных к рентгенофлюоресцентным), и подходы к материалу (от первых обобщений, построенных на учете массовых результатов, уже давно перешли к решению частных и «региональных» вопросов), однако теоретические основы остались традиционными. Серия бронз эпохи палеометалла с поселения Исток небольшая, однако и первые выводы, полученные в рамках историко-металлургического подхода, вполне соответствуют ее информативным возможностям. Первая группа представлена девятью предметами эпохи поздней бронзы (ирменская культура), среди которых преобладают медные вещи, а также бронзы с лигатурой мышьяка, в том числе и в сочетании с сурьмой и оловом. Такой набор химико-металлургических групп позволил высказать предположение о тяготении исто- ковской позднебронзовой серии к металлургическим традициям ирменской культуры центральных районов Кузнецкой котловины. Вторая группа из семи изделий датирована эпохой раннего железа. В ней оловяни-сто-свинцовистые и оловянистые бронзы соответствуют металлургическим традициям сарагашенского этапа тагарской культуры, а бляха бронзового плоскостного литья иллюстрирует иную металлургическую традицию эпохи раннего железа, отличающуюся сложным многокомпонентным сплавом, составленным с использованием цинкосодержащих руд.
THE RESULTS OF XRAY FLUORESCENCE STUDIES
OF METAL FROM ISTOK SETTLEMENT IN KUZNETSK HOLLOW