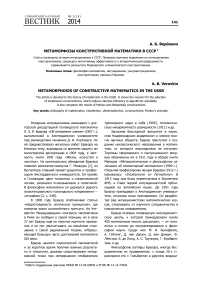Метаморфозы конструктивной математики в СССР
Автор: Веревкин Андрей Борисович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 1 (15), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена истории интуиционизма в СССР. Показаны причины выделения из интуиционизма конструктивизма, сводящего интуитивную эффективность к алгоритмической разрешимости. Сравниваются результаты Марковского и Бишоповского конструктивизма.
Философия математики, интуиционизм, ультраинтуиционизм, конструктивизм, принцип маркова
Короткий адрес: https://sciup.org/14113874
IDR: 14113874
Текст научной статьи Метаморфозы конструктивной математики в СССР
Рождение интуиционизма связывают с докторской диссертацией голландского математика Л. Э. Я. Брауэра «Об основаниях знания» (1907 г.), выполненной в Амстердамском университете под руководством механика Д. И. Кортевега. Но ей предшествовало несколько работ Брауэра на близкую тему, вышедших со времени защиты им магистерской диссертации в 1904 году, в частности, книги 1905 года «Жизнь, искусство и мистика» . На оригинальные убеждения Брауэра повлиял математик-самоучка Г. Маннури [1], из бухгалтера ставший приват-доцентом и профессором Амстердамского университета. Он принёс в Голландию идеи топологии и символической логики, увлекался психоанализом и политикой. В философии математики он держался редкого экзистенциального голландского направления — сигнифики [2, с. 248].
В 1908 году Брауэр опубликовал статью «Недостоверность логических принципов» , где отвергал закон исключённого третьего. На Четвёртом Международном конгрессе математиков в Риме он сообщил о своей позиции, но в свои 27 лет Брауэр ещё не получил научного признания и не мог рассчитывать на серьёзное отношение к своей радикальной теории, отбрасывающей большую часть достижений математики XIX века.
Брауэр занялся классической математикой и за короткое время получил важные результаты в топологии, доказав существование неподвижной точки при непрерывном отображении ultraintuitionism, constructivism, Markov’s principle.
трёхмерного шара в себя (1909), топологическую инвариантность размерности (1911) и др.
Заслужив бесспорный авторитет в науке, став Нидерландским академиком и членом многих научных обществ, Брауэр приступил к созданию неклассического направления в математике, от которого впоследствии не отступал. Термины «формализм» и «интуиционизм» впервые обозначены им в 1911 году в обзоре книги Маннури «Методологические и философские замечания об элементарной математике» (1909 г.). Открытая профессорская лекция Брауэра (1912 г.) называлась «Intuitionisme en Formalisme» . В 1913 году она была перепечатана в Бюллетене AMS, и стала первой интуиционистской публикацией на английском языке. До 1951 года Брауэр преподавал в Амстердамском университете, отклоняя иные приглашения. Он разработал ряд интуиционистских математических курсов, отказываясь от научного сотрудничества в классических направлениях.
Брауэр основал голландскую интуиционистскую школу, к которой принадлежали около 400 математиков многих дисциплин, — от топологии и логики до программирования и философии науки. Среди них: М. И. Белифанте, А. Гейтинг, Д. ван Дален, Д. ван Данциг, Ф. Лёнстра, Б. де Лоор, А. С. Трулстра, Г. Фрейден-таль и др.
Философские взгляды Брауэра, иногда бесцеремонное их продвижение, с конца 20-х гг. рассорили его с Гильбертом и другими ведущи- ми математиками Европы. После 1945 года под необоснованным предлогом денацификации его скомпрометировали и в голландской науке.
Брауэр считал, что математика априорна и несводима к опыту, логике или языку, — это не теория, а существенная часть человеческой деятельности, связанной с выделением отдельных восприятий. Он придерживался когерентной теории истины, считая, что правильность математических рассуждений определяется интуитивно ощущаемой согласованностью всего теоретического построения. В венском докладе (1929 г.) Брауэр обозначил свою философскую позицию в более определённой форме — он не признавал объективность пространственно-временного мира и его причинно-следственных связей, считая их продуктом совокупной воли человечества.
Своими идейными предшественниками Брауэр называл Л. Кронекера, А. Пуанкаре и Э. Бореля, представлявших интуитивное направление в математике. Интуитивисты не создали собственной философской системы, ограничиваясь остроумной критикой новых математических методов, к созданию которых имели непосредственное отношение. Будучи выдающимися учёными, они привлекли внимание к своим идеям за пределами своей дисциплинарной области. Пуанкаре даже удостоился ленинской критики за «субъективистские выверты» конвенционализма, будучи назван «сбивчивым и непоследовательным писателем», «мелким философом», «мыслящим только бессмыслицу» идеалистом и релятивистом [3].
По другой классификации [2, с. 243—244] интуитивистов именуют интуиционистами, а последователей Брауэра называют неоинтуиционистами .
Интуитивистов объединяло мнение о бесполезности и бессмысленности теорем о существовании объектов, не дающих способов их построения. А таких теорем накопилось в математике XX века немало, например, в вещественном анализе Вейерштрасса, Дедекинда и Кантора. Неэффективные теоремы ещё ранее прописались в алгебре — таким является утверждение о существовании комплексного корня числового многочлена. Беспокойство математиков этим обстоятельством выражалось во множестве попыток передоказательства, в активных исследованиях на тему нахождения или локализации корней и в игнорировании комплексных чисел (например, в окружении Чебышева). Потрясение алгебраического сообщества вызвала теорема Гильберта о конечности инвариантов.
Проблема инвариантов в 1868 году была эффективно решена эрлангенским математиком П. А. Горданом в частном случае. В теме не было значительного продвижения до 1888 года, когда Гильберт решил её для всех рассматриваемых тогда случаев (самая общая постановка задачи представляет 14-ю проблему Гильберта, отрицательно решённую японским математиком М. Нагатой в 1958 году). Предварительно Гильберт доказал свои знаменитые теоремы о конечности базиса и о нулях. Он сообщил о решении проблемы алгебраическому патриарху А. Кэли, поначалу принявшему результат за план ещё не сделанной работы. Против метода Гильберта резко высказались Гордан, Линдеман и Кронекер [4]. Рассуждение Гильберта при том не были чистой теоремой существования, — для каждого конкретного случая на его пути можно построить конечный базис идеала кольца многочленов и базис системы инвариантов.
По-настоящему неэффективные теоремы существования вытекают из принципа исключённого третьего, ставшего главным объектом критики интуитивистов. Другими предметами их нападок были актуальные бесконечности и аксиома выбора. Избавление математики от этого триединого зла, по мнению интуитивистов, снимает все противоречия и парадоксальные конструкции, делая доказательства интуитивно ясными. Интуиции они придают объективное, априорное, интуитивно понятное значение. То, что при последовательном применении такого подхода пропадёт значительная часть полезных математических достижений, не считается важным.
Брауэр мало интересовался логикой как таковой, но под влиянием критики обратился к логическому оформлению своей теории. Первую кодификацию интуиционистской логики построил в 1930 году ученик Брауэра Гейтинг. Её язык совпадает с языком классической математической логики, а различие проявляется в законах и интерпретациях операций [5, с. 122—142]. Эта система не рассматривается как исчерпывающая и окончательная — интуиционисты уверены, что таковой вообще не может быть.
Интуиционисты не интересуются проблемой парадоксов — антиномии для них являются бессмысленными сочетаниями слов, не заслуживающими раздумий. В интуиционистской логике не любое высказывание имеет истинностное значение — суждения, заявляющие о неконкретной возможности чего-то, считаются слишком абстрактными для этого. Принцип исключённого третьего применим без дополнительного исследования лишь к объектам конечной природы. Это следует из интуиционистского понимания логических операций: истинность конъюнкции требует конструктивного доказательства всех входящих операндов, а дизъюнкции — хотя бы одного из них, но вполне определённого. Эти операции особенно проблематичны по отношению к бесконечным множествам, не допускающим законченного исчерпывающего исследования. Поэтому к ним не всегда применимы экзистенциальные и всеобщие утверждения, сводимые к дизъюнкциям и конъюнкциям соответственно. Это суждение ранее высказывал Аристотель: «Если бесконечное, поскольку оно бесконечно, непознаваемо, то бесконечное по количеству или величине непознаваемо, сколь оно велико, а бесконечное по виду непознаваемо, каково оно по качеству» [6].
В интуиционистской логике также отсутствует снятие двойного отрицания, все связки и кванторы оказываются независимыми и не сводятся друг к другу посредством законов де Моргана, как в логике классической.
Интуиционистскую логику можно неформально мыслить как логику принципиальной вычислимости. А. Н. Колмогоров в 1931 году интерпретировал интуиционистскую логику как исчисление задач. Логические переменные здесь считаются задачами, связки — преобразованиями задач, а доказательства — сведением новых задач к задачам, решённым ранее или принятым за таковые. А. Тарский в 1938 году предложил многозначную интерпретацию интуиционистской логики. Истинностная функция на формуле A принимает значение в открытом множестве U фиксированного топологического пространства X , а на отрицании этой формулы — во внутренности дополнения U . Остальные логические связки интерпретируются булевым образом. С. К. Клини в 1945 году построил интерпретацию интуиционистской логики в логике классической.
Ученик Н. Н. Лузина В. И. Гливенко в 1929 году доказал, что двойное отрицание истинного предложения классической логики доказуемо в логике интуиционистской, и поэтому интуиционистская логика является расширением классической.
Отрицая актуальные бесконечности, интуиционисты признают бесконечные множества в потенциальном смысле, как «свободно становящиеся последовательности», генерируемые какой-то процедурой, например, алгоритмом или физическим датчиком. Континуум они рассматривают как «среду свободного становления». Первым теорию интуиционистского континуума построил ученик Д. Гильберта Г. Вейль [7] в 1918 году, брауэрова версия изложена А. Гей-тингом [5, с. 49] в 1956 году, другую предложил ученик С. К. Клини Р. Ю. Весли [8] в 1962 году. Указывают, что некоторые конструкции Брауэра используют актуальную бесконечность неявным образом. Интуиционисты допускают целостное исследование бесконечных совокупностей методом полной индукции или мысленным экспериментом. Неперечислимых бесконечностей у них не встречается.
Выводы интуиционистской математики весьма отличаются от классических. Так, интуи-тивистски определённые функции не имеют разрывов и, будучи заданы на вещественном отрезке, являются равномерно непрерывными, достигают верхней и нижней грани, но могут не принимать промежуточных значений. Существуют несравнимые вещественные числа. Монотонная ограниченная последовательность не обязательно сходится.
К достоинствам интуиционизма относят позитивное использование и логическую формализацию незнания. Несомненно, что интуиционизм Брауэра стимулировал логические и алгоритмические исследования, породив множество логических теорий с нетрадиционными законами и операциями. Среди таких систем упоминаются слабая интерпретация Д. ван Данцига, минимальное исчисление И. Иоганссона и без-отрицательная математика Г. Ф. К. Грисса и П. К. Гилмора.
Российский логик, ученик П. С. Новикова, А. С. Есенин-Вольпин в конце 1960-х гг. начал строить теорию, называемую ультраинтуиционизмом [9]. Ранее его знали как пострадавшего от политических репрессий правозащитника, поэта, философа, талантливого автора статей в «Философской энциклопедии» (1967 г.) и переводчика книг по математической логике. Его научное мировоззрение можно обозначить как скептицизм и антиэмпиризм.
Есенин-Вольпин сомневается в единственности натурального ряда, в его существовании и в применимости к нему принципа индукции. С интуиционизмом его теорию роднит отказ от некоторых традиционных законов, использующих отрицание. Он считает необходимым привлечение в логику дополнительных модальностей.
Его система имеет отличие от интуиционизма. Так, интуиционисты мало озабочены строгостью рассуждений, считая, что понятие доказательства не может быть формализовано. Есенин-Вольпин, напротив, уделяет доказательству много внимания, сводя его к неоспоримо- сти в рамках недостроенной теории диспутов. Своей ближайшей математической целью он поставил обоснование непротиворечивости аксиоматической теории множеств Цермело-Френке-ля, но пока не достиг этого. Кроме того, он надеется, что его идеи пригодны для создания строгих логических оснований всех наук, в том числе и гуманитарных. Поэтому он относит своё направление к фундаментализму. Некоторые философы, отмечая метадисциплинарные цели теории Есенина-Вольпина и отличия от классического интуиционизма, относят её к неологицизму.
Главный парадокс интуиционизма в том, что идея интуитивной ясности не является интуитивно ясной. Поэтому из интуиционизма выделился конструктивизм , сводящий интуитивную эффективность к алгоритмической разрешимости.
Тезис об ограниченности человека и его способности к познанию во всяком конструктивном течении считается самоочевидным, отличаясь в этом от интуиционизма. Конструкции Брауэра вещественного континуума пытались передать интуицию непрерывного, а конструктивная математика принципиально дискретна. Тем не менее, некоторые конструктивисты не отделяют своего направления от интуиционизма [10]. Но даже без такого отождествления внутри конструктивизма есть несколько течений.
В СССР первым последовательным конструктивистом был А. А. Марков-младший (1903— 1979), сын петербургского академика А. А. Маркова-старшего (1856—1922). За рубежом его течение называлось «советским конструктивизмом», а у нас — «конструктивизмом Маркова».
Марков окончил физическое отделение физмата Ленинградского университета в 1924 году, проучившись один курс на химическом отделении. Его первая научная работа (1924) относилась к экспериментальной химии. В 1928 году Марков закончил аспирантуру Ленинградского астрономического института. В это время он написал несколько статей по физике — о проблеме 3-х тел и квантовой механике. Затем он занялся динамическими системами, а с 1933 года работал в топологии. Его результаты в этой области высоко ценил П. С. Александров.
В 1935 году Маркову без защиты диссертации присвоили степень доктора физико-математических наук, в 1936 году он стал заведующим кафедрой геометрии матмеха Ленинградского университета. В 1934—55 гг. он работал в Ленинградском отделении математического института и в 1942—1953 был его директором. В 1953 году Маркова избрали членом-корреспондентом
АН СССР. В 1955 году он переехал в Москву и работал в МИАН. С 1959 года Марков заведовал созданной по его инициативе кафедрой математической логики мехмата МГУ, и с 1972 года возглавлял лабораторию логики и структуры машин ВЦ АН СССР. С 1976 года Марков был вице-президентом Московского Математического Общества.
Как математик Марков (младший) сложился без официального научного руководителя. Но он называл своим учителем отца, отмечая также, что интерес к логике у него пробудился на университетском семинаре А. В. Васильева. Под влиянием публикации С. К. Клини 1945 году. Марков занялся теорией алгоритмов. Уже в 1947 году он дал отрицательное решение проблемы 1914 года, поставленной норвежским математиком А. Туэ, доказав алгоритмическую неразрешимость равенства в ассоциативных системах (в современной терминологии — в полугруппах). Независимо от Маркова тогда же проблема Туэ была решена Э. Л. Постом.
Начиная с этого времени и до последних дней Марков в основном занимался алгоритмами, которые называл «алгорифмами», — сегодня этот архаический термин определяет причастность к Марковскому направлению. В 1948— 1950 гг. он прочёл лекции по основаниям математики на матмехе Ленинградского университета. В 1950 году Марков объявил о создании собственного понятия «нормального алгорифма» , а подробное описание этой конструкции он дал в следующем году [11]. Ранее Марков использовал определения Чёрча, Тьюринга, Клини и Поста. Обстоятельное изложение результатов и методов своего направления Марков дал в монографии 1954 года [12] .
Марков основал научную школу, к двум ветвям которой, ленинградской и московской, принадлежат примерно 160 учёных (О. Демут, А. Г. Драгалин, И. Д. Заславский, М. И. Канович, Б. А. Кушнер, С. Ю. Маслов, Ю. В. Матиясевич, Г. Е. Минц, Н. М. Нагорный, Н. Н. Непейвода, В. П. Оревков, Н. В. Петри, Г. С. Цейтин, Н. А. Шанин, В. А. Янков и многие другие). Московская ветвь этой школы частично пересекается с логическими школами П. С. Новикова и А. Н. Колмогорова.
Конструктивизм Маркова вырос из естественно-научного стремления к осязаемости. Он считал, что цель математики исчерпывается конструктивной функцией, а саму математику относил к техническим наукам вроде машиноведения. Марков отвергал актуальную бесконечность, но признавал абстракции отождествле- ния и потенциальной осуществимости. В логике Маркова (ступенчатой семантической системе) нет закона исключённого третьего, но выполнен закон непротиворечия. Логические операции применяются к операндам с конструктивно прояснённым смыслом, импликация понимается как алгорифмическая выводимость.
Марков применял «ленинградский принцип», «принцип Маркова» или «принцип конструктивного подбора» , из которого следует возможность снятия двойного отрицания с некоторых экзистенциальных формул и признание, тем самым, некоторых следствий закона исключённого третьего. Принцип утверждает о завер-шаемости алгорифма, если нелепо предположение о его неограниченной продолжаемости [13]. С этим решительно не соглашаются интуиционисты и конструктивисты иных течений. Из принципа Маркова следуют почти гёделевы результаты о неполноте: конструктивная реализуемость не влечёт выводимость.
Математические результаты Марковского конструктивизма близки интуиционистским, но глубже по части доказательства неразрешимости проблем. В марковской теории классическая конечность расщепляется на четыре неэквивалентных понятия: финитности, субфинитности, квазифинитности и неинфинитности. В анализе неразрешимы проблемы равенства вещественных чисел отсутствуют разрывные функции. В теории полугрупп неразрешимы проблемы тождества и делимости элементов, изоморфии, единичности, группового свойства и вложимо-сти в группу. В топологии неразрешима проблема гомеоморфии и гомотопической эквивалентности. При этом возникают неясные выходы в классическую математику [14].
Марков объяснил причину неразрешимости массовых задач неограниченным ростом сложности алгорифмов, разрешающих частные случаи.
Современных последователей Маркова интересует не полнота теорий, а интуитивно понимаемая адекватность. Главной целью конструктивизма они считают анализ методов построений. Из научных идеалов они предпочитают полезность, с подозрением относятся к новизне и декларируют ограниченность познания [15]. Всё это указывает на кризис направления, возможно, из-за распада российских научных институтов. Положение стабилизирует рост востребованности конструктивных идей в информатике, кибернетике и вычислительной математике.
К зарубежному направлению конструктивизма относится программа американского математика Эрретта Альберта Бишопа (1928—
1983). В биографиях Бишопа и Маркова (младшего) есть некоторые параллели. Отец Эрретта Альберта Альберт Т. Бишоп окончил военную академию в Вест-Пойнте, и после Первой мировой войны работал профессором математики в разных университетах. Он умер, когда Эрретту Альберту было 5 лет. Эрретт Бишоп учил математику по книгам, оставшимся от отца. Его считали вундеркиндом, математические способности были и у его младшей сестры Мэри. В 1944 году он поступил в Чикагский университет и окончил его в 1947 году. Затем Бишоп отслужил два года в армии и работал в Национальном Бюро Стандартов. В 1952—1954 гг. он поступил в аспирантуру Чикагского университета, и в 1955 году написал замечательную докторскую диссертацию под руководством П. Р. Халмоша о спектральной теории операторов в банаховых пространствах. Бишоп постоянно жил в Калифорнии. В 1955—1964 гг. он работал в университете Беркли, а в 1965—1982 гг. — в университете Сан-Диего.
Интерес Бишопа к конструктивной математике появился в 1964 году во время годичной стажировки в Миллеровском институте фундаментальных исследований в Беркли, но до этого он успел написать ряд интересных работ в области комплексного анализа. Коллеги вспоминают, что обращение в конструктивизм у него произошло под влиянием идей Г. Вейля, а с работами Брауэра Бишоп не желал знакомиться чересчур глубоко, чтобы не потерять своих оригинальных мыслей. В 1966 году он приехал в Москву на математический конгресс и прочитал пленарный доклад о конструктивизации математического анализа. Его идеи были встречены аудиторией без восторгов — многие переживали потерю прекрасного математика классического направления. А. А. Марков и Н. А. Шанин предложили Бишопу продолжить обсуждение на кафедре логики, но после краткой беседы общего языка не нашлось. Бишоп отрицал значимость алгоритмов для математики и шёл своим путём. В 1967 году он написал книгу «Foundations of Constructive Analysis» , которая открывалась
«Конструктивистским Манифестом» . Такие идеи тогда не считались респектабельными. Бишопу не удалось договориться и с американскими специалистами по рекурсивным функциям. В 1972 году в соавторстве с учеником Г. Ченгом он опубликовал книгу «Constructive measure theory» . В 1985 году посмертно опубликована последняя книга Бишопа «Constructive Analysis» , написанная в соавторстве с Букингемским профессором школы Чёрча-Тьюринга Д. С. Бриджесом.
В 1973 году Бишоп прочитал для AMS и опубликовал лекцию с критикой классической математики «Шизофрения в современной математике» . В это время он перестал набирать учеников, потому что им было сложно защититься по неклассическому направлению. Последнюю диссертацию под его руководством защитил в Сан-Диего Дж. Д. Бром в 1974 году по теме «Конструктивная теория компактных операторов» . Известно только 5 диссертаций явно конструктивного направления под руководством Бишопа. К его школе сегодня относят себя 10 математиков.
В основе Бишоповского конструктивизма лежит идея восстановления нумерического смысла математики. Его позицию в анализе называют «атомистической». Бишоп отрицал свободно становящиеся последовательности Брауэра, жёсткую привязку эффективности к рекур-сивности и возможность окончательной формализации доказательства. Он связывал доказательность с убедительностью и здравым смыслом, отводя собственно логике в обосновании математики не главную роль.
История науки XX века показала, что вопрос об основаниях математики и знания вообще на современном уровне не может быть разрешён в окончательном виде и остаётся открытым.
-
1. Van Atten, M. Luitzen Egbertus Jan Brouwer // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2011 Edition).
-
2. Френкель А. А., Бар-Хиллел И. Основания теории множеств. М. : Мир, 1966.
-
3. Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм // Ленин В. И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 18. М. : ИПЛ, 1968.
-
4. Рид К. Гильберт. М. : Наука, 1977. С. 48—49.
-
5. Гейтинг А. Интуиционизм. М. : Мир, 1965.
-
6. Аристотель. Физика. Кн. 1, гл. 4 // Аристотель. Соч. : в 4 т. Т. 3. М. : Мысль, 1981. С. 69.
-
7. Вейль Г. О философии математики : Сб. работ. М. ; Л. : ГТТИ, 1934. С. 100—128.
-
8. Клини С., Весли Р. Основания интуиционистской математики с точки зрения теории рекурсивных функций. М. : Наука, 1978. С. 184—238.
-
9. Есенин-Вольпин А. С. Об антитрадиционной (ультра-интуиционистской) программе оснований математики и естественнонаучном мышлении // Вопр. философии. 1996. № 8. С. 100—136.
-
10. Непейвода Н. Н. Интуиционизм // Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М. : Канон+, 2009. С. 302—305; Конструктивная математика: обзор достижений, недостатков и уроков. Ч. I // Логические исследования. Вып. 17. М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2011. С. 191—239.
-
11. Марков А. А. Конструктивная логика // УМН. 1950. Т. 5, № 3. С. 187—188; Теория алгорифмов // Тр. Матем. ин-та им. В. А. Стеклова. 1951. Т. 38. С. 176—189.
-
12. Марков А. А. Теория алгорифмов // Тр. Матем. ин-та им. В. А. Стеклова. 1954. Т. 42. С. 3—375 (переиздана в соавт. с Н. М. Нагорным в 1984 и 1996 гг.).
-
13. Марков А. А. О конструктивной математике // Тр. Матем. ин-та им. В. А. Стеклова. 1962. Т. 67. С. 8—14.
-
14. Сосинский А. Б. А не может ли гипотеза Пуанкаре быть неверной? // Тр. Матем. ин-та им. В. А. Стеклова. 2004. Т. 247. С. 247—251.
-
15. Непейвода Н. Н., Бельтюков А. П. Манифест прикладного конструктивизма // Логические исследования. 2010. № 16. С. 199—204.
С. 48, 171, 279, 311, 328 и др.
Список литературы Метаморфозы конструктивной математики в СССР
- Van Atten, M. Luitzen Egbertus Jan Brouwer//The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2011 Edition).
- Френкель А. А., Бар-Хиллел И. Основания теории множеств. М.: Мир, 1966.
- Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм//Ленин В. И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 18. М.: ИПЛ, 1968. С. 48, 171, 279, 311, 328 и др.
- Рид К. Гильберт. М.: Наука, 1977. С. 48-49.
- Гейтинг А. Интуиционизм. М.: Мир, 1965.
- Аристотель. Физика. Кн. 1, гл. 4//Аристотель. Соч.: в 4 т. Т. 3. М.: Мысль, 1981. С. 69.
- Вейль Г О философии математики: Сб. работ. М.; Л.: ГТТИ, 1934. С. 100-128.
- Клини С., Весли Р. Основания интуиционистской математики с точки зрения теории рекурсивных функций. М.: Наука, 1978. С. 184-238.
- Есенин-Вольпин А. С Об антитрадиционной (ультра-интуиционистской) программе оснований математики и естественнонаучном мышлении//Вопр. философии. 1996. № 8. С. 100-136.
- Непейвода Н. Н. Интуиционизм//Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М.: Канон+, 2009. С. 302-305;
- Конструктивная математика: обзор достижений, недостатков и уроков. Ч. I//Логические исследования. Вып. 17. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2011. С. 191-239.
- Марков А. А. Конструктивная логика // УМН. 1950. Т. 5, № 3. С. 187-188; Теория алгорифмов // Тр. Матем. ин-та им. В. А. Стеклова. 1951. Т. 38. С. 176-189.
- Марков А. А. Теория алгорифмов//Тр. Матем. ин-та им. В. А. Стеклова. 1954. Т. 42. С. 3-375 (переиздана в соавт. с Н. М. Нагорным в 1984 и 1996 гг.).
- Марков А. А. О конструктивной математике//Тр. Матем. ин-та им. В. А. Стеклова. 1962. Т. 67. С. 8-14.
- Сосинский А. Б. А не может ли гипотеза Пуанкаре быть неверной?//Тр. Матем. ин-та им. В. А. Стеклова. 2004. Т. 247. С. 247-251.
- Непейвода Н. Н., Бельтюков А. П. Манифест прикладного конструктивизма//Логические исследования. 2010. № 16. С. 199-204.