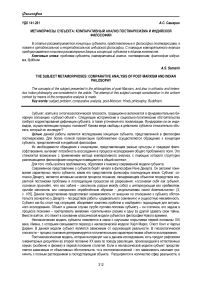Метаморфозы субъекта: компаративный анализ постмарксизма и индийской философии
Автор: Самарин А.С.
Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 10, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются концепции субъекта, представленные в философии постмарксизма, а также в ортодоксальной и неортодоксальной индийской философии. С помощью компаративного анализа предпринимается попытка рассмотрения данных концепций субъекта в едином контексте.
Проблема субъекта, компаративный анализ, постмарксизм, философия индуизма, буддизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14082749
IDR: 14082749 | УДК: 141.201
Текст научной статьи Метаморфозы субъекта: компаративный анализ постмарксизма и индийской философии
Субъект, взятый в онтогносеологической плоскости, традиционно включается в фундаментальную бинарную оппозицию «субъект-объект». Следующие исторические и социально-политические обстоятельства требуют корректирования дефиниции субъекта, а также уточнения его локализации. Фундирован ли он индивидом, осуществляющим процесс познания? Какова мера свободы в действиях субъекта относительно объекта, который он исследует?
Целью данной работы является исследование концепции субъекта, представленной в философии постмарксизма. Для более полной презентации проблематики осуществляется обращение к концепции субъекта, представленной в индийской философии.
Из необходимости обращения к концепциям, представляющим разные культуры и традиции философствования, вытекает потребность воссоздания в процессе исследования общего проблемного поля. Это становится возможным с применением метода компаративного анализа, с помощью которого структурно различающиеся философские концепции помещаются в общий контекст.
Для того чтобы войти в проблематику, обратимся к генезису современной модели субъекта.
Современное представление о субъекте берёт начало в философии Рене Декарта. Он заложил понимание характерных черты субъекта, каким его представляли философы последующих веков. Субъект, согласно Декарту, является активным началом процесса познания, овладевающим объектом посредством корректной постановки проблемы и последующим процессом её разрешения: « осознавая себя как субъект, познание признаёт, что его задача – заполнить разрыв между собой и интересующим его предметом, причём заполнить его совершенно определённым образом – результатами своей деятельности » [3, с. 105 ]. Данное представление предполагает независимость от внешних по отношению к субъекту обстоятельств (конкретно у Декарта – посредством работы «радикального сомнения») и сущностную неизменность. Субъект как бы стоит над ситуацией, обозревает комплекс проблем и «выбирает» подходящие для актуального исследования. Объект в данном случае сугубо противо-положен субъекту – он статичен, его задача в процессе познания – претерпевать внимание «светильника» разума и одну за другой сдавать свои тайны. Вместе взятое, это лежит в основании классической модели субъекта в философии Нового времени.
Неклассическая модель субъекта появляется в связи с научными открытиями первой половины XIX века. Имена, с которыми связывается переход к неклассической модели: Карл Маркс, Огюст Конт и Чарльз Дарвин. В данной модели субъект является зависимым от окружающей реальности. В гносеологической плоскости – процесс познания детерминируется отличительными характеристиками объекта исследования.
Постнеклассическая модель, которая интересует нас в данном исследовании, есть продукт рефлексии гуманитарных дисциплин во второй половине XX века по поводу революции, произошедшей в естественных науках (особенно в физике) в первой половине столетия. Если в неклассической модели субъект представляется зависимым от объективных обстоятельств, то в постнеклассической – его зависимость начинает граничить с полным растворением в господствующем объекте. Расширяется и количество сфер реальности, в которые исследователи помещают субъект: это прежде всего разнообразные дискурсы, а также области, не принадлежащие ни одной области научного знания, располагающиеся «между» – на стыке лингвистики и эстетики, культурологии и психоанализа и т.д.
Следует артикулировать общую черту, которая позволяет сравнивать концепции субъекта восточной и западной философии – проблематичность бинарной оппозиции «субъект/объект». Используемый в данной статье термин «расщеплённый субъект» заимствован из концепции Жака Лакана. Под расщеплённым субъектом понимается осложнение выделения связей между объектом и субъектом в европейской философии после начала доминирования постструктурализма, которое начало всё более напоминать ситуацию, сложившуюся по этому вопросу в Индии столетия назад.
Перейдём к концепции постмарксизма, рассматривающейся в двойной перспективе: через критический дискурс-анализ Э. Лакло и Ш. Муфф, а также через философию С. Жижека.
Э. Лакло и Ш. Муфф являются одними из ключевых теоретиков постмарксизма и разрабатывают свою концепцию субъекта в плоскости политической борьбы, считаясь с провозглашённой в философии постструктурализма «смертью субъекта» как с проблематизацией вопроса о возможности локализации субъекта.
Критический дискурс-анализ, который был создан Лакло и Муфф, идёт вразрез с установками классического марксизма и отрицает решающую роль сферы экономики в понимании вопроса о детерминированности субъекта: « благодаря включению политического элемента в модель «базис/надстройка» социальные процессы больше не развиваются только в одном направлении » [4, с. 65 ]. Таким образом, ведущая роль в формировании субъекта, а в дальнейшем и в предоставлении сферы для проявления его активности принадлежит политике. Доступ к любым феноменам социального или физического мира опосредован происходящим в сфере дискурса. Политическая же сфера выполняет роль арены для столкновений разных субъектов дискурса, в противоборстве которых выявляются наиболее сильные. Понимание «политики» автором «Гегемонии и социалистической стратегии» очень широко: « для Лакло и Муфф политика – это определенная организация общества, которая исключает все другие возможные способы устройства. В этом случае политика – это не только «поверхность», которая отражает более глубокую социальную реальность. Скорее, именно социальная организация – это результат непрерывных политических процессов » [4, с. 72 ].
Концепция Лакло и Муфф фундирует субъект в дискурсивных практиках в контексте борьбы за власть. В этом отношении они выступают последовательными марксистами, поскольку продолжают традицию основателя направления в рассмотрении политической плоскости как основной сферы реализации субъекта, сферы, в которой осуществляется борьба за общественные изменения. Проблема с субъектом в концепции Лакло и Муфф заключается в том, что данный взгляд депсихологизирует субъект, делает его возможным как принципиально коллективный.
Словенский философ Славой Жижек в разработке проблематики субъекта опирается на концепцию французского психолога и создателя структурного психоанализа Ж. Лакана. Стиль философствования Жи-жека сходен с традицией, принятой в постструктурализме: большое количество отсылок к сферам искусства, политики, общественной жизни, создание как можно более насыщенного контекстуального поля. Хотя сам философ называет себя последователем диалектического материализма.
У него принципиальным моментом, проблематизирующим вопрос о субъекте, является Реальное. Реальное – это глубинное основание любого феномена, основной характеристикой которого является сущностная пустота. В то же время Реальное выступает организующим началом любой вещи или её действия. Оно принципиально скрыто от соприкосновения с внешностью бытия, поскольку является его травматической наличностью. Его проявления во внешнем по отношению к нему самому бытии обычно оцениваются воспринимающими это проявление как катастрофа, крушение символической структуры бытия. При этом связь Реального с вещами неотъемлема: « Реальная Вещь является фантазматическим призраком, присутствие которого гарантирует последовательность нашей символической системы взглядов, позволяя нам таким способом избежать столкновения с ее конститутивной непоследовательностью («антагонизм») » [2, с. 39 ].
В отличие от Лакло и Муфф, Жижек локализует субъект в психологической реальности (как индивида, так и социальных отношений). Но локализация эта необычна: « реактуализация сильного понятия субъекта у Жижека парадоксальна и не имеет ничего общего с простым восстановлением того понимания субъекта, которое было развито в классической новоевропейской философии. Лакановская трактовка, на которую опирается Жижек, предполагает, что децентрированность и отчуждение принадлежат к самому существу субъекта » [1, c. 190 ]. Возможность активного преобразования окружающей действительности, таким образом, вытекает из внутренней потребности к поиску путей самоидентификации – при том, что окончание этого процесса не представляется возможным.
В отличие от Лакло и Муфф, у Жижека не возникает проблемы с концептуальным отражением противоречивости и антагонистичности процессов в политической реальности. Зато возникает иная – с самим потенциалом преобразования, который наличествует у субъекта. Позиционируя себя как активного преобразователя политической действительности, субъект у Жижека практически не имеет выхода к этой самой политике: « Жижековское «радикальное политическое действие» не разрешает общественных проблем и не ведёт к коренным улучшениям, а лишь снимает блокировки с некоторых способов мысли и действия и способно неопределённым образом изменить ту общественную констелляцию, которая сгенерировала социальный симптом » [1, с. 203 ]. Причина этого – в крайне сложной концептуализации Реального: будучи способными увидеть его проявление, мы не можем определить вероятность этого проявления в той или иной ситуации. В результате укоренения в психологической плоскости у Жижека субъект там же и теряется.
Теперь перейдём к рассмотрению того, каким образом ставится и разрешается проблема в индийской философии.
Ситуация, сложившаяся в Индии, существенно отличается от европейской. Тому причиной два фактора: 1) иная структура философствования; 2) иной взгляд на субъект, проистекающий из социокультурной ситуации. В европейской философии субъект (как в гносеологии, так и в праксеологии) понимается как субъект индивидуальный среди множества других индивидуальных субъектов. Потому здесь (в Европе) «расщеплённость» субъекта есть его внутреннее несоответствие себе. В Индии понимание «расщеплённости» субъекта возникает ввиду его коллективности. Попробуем разобраться на конкретных примерах, как эта расщеплённость проявляется и действует.
Следует отметить особенности нашего обращения к Индии. Отразим эти особенности в двух пунктах: 1) в данном контексте Индия интересует нас только как «зеркало», в котором «отразится» концепция субъекта постмарксизма; 2) углубление в индийскую тематику грозит параллельным углублением в соотношение различных концептуальных нестыковок между отличающимися стилями философствования, что, в свою очередь, может увести в дурную бесконечность поиска «истинного положения дел» в вопросе соотнесения этих разных позиций. Таким образом, «индийские философии как таковые» мы не рассматриваем, а берём их как пример для прояснения проблем постмарксизма.
В интересующей нас плоскости следует обратить особое внимание на системы санкхья и йога ортодоксального индуизма, а также школу йогачара буддийской философии. Каждая из этих философий особым образом решает проблему субъекта в отношении приложения его активности к объекту. Рассмотрим, как это происходит.
В ортодоксальной философии нндуизма наиболее иллюстративными в отношении субъекта являются концепции санкхьи и йоги. Причём санкхья занимается оформлением теории субъекта, а йога – его практической реализацией. Поясним, каким образом осуществляется это распределение.
В отношении обеих систем есть особенности, требующие пояснения. Внешняя форма философии санкхьи касается изображённого в терминах философии театрального становления субъекта – Пуруши. При этом оформление Пуруши становится возможным благодаря его противопоставлению пракрити – инертной материи, форма которой зависит от действий Пуруши. Отдаляясь от натуралистического понимания данного процесса, мы можем увидеть, что в санкхье строится модель психики, с выделением действующего начала, условий его становления и законов функционирования в отношении к противопоставленной психическому субъекту статичной материи.
В отношении йоги также возникает ситуация, требующая пояснения на полях. Под термином «йога» в Индии понимают как даршану, то есть одну из крупнейших философских систем индуизма, так и, более широко, процесс мышления [4, с. 94 ]. Во втором значении йога является универсальным философским понятием, используемым школами как ортодоксальной философии индуизма, так и неортодоксальной. Йога в традиционном для Европы понимании обозначает комплекс психофизических практик, направленный на укрепление здоровья и, шире, обретение особых телесных и психических способностей (сиддхи). В целом – это есть внешнее проявление деятельности йоги как философской системы – практика психизма.
В целом санкхья и йога представляют собой функционально связанные философские системы, причём деятельность одной является поводом для начала деятельности другой. По отношению друг к другу они взаимно дополнительны.
Иной взгляд на проблему субъекта представлен буддистской школой йогачара. Одно из двух крупнейших направлений буддизма махаяны – йогачара – разрабатывает концепцию эпистемологического идеализма. Основной интерес философии йогачары – структура, функционирование и содержание сознания. «Внешний мир», подобно трансцендентальному идеализму Канта, дан нам в непосредственной связи со структурами нашего восприятия. Отделение мира самого по себе от нашего восприятия в йогачаре не предполагается. Со- ответственно, под нирваной в данной концепции понимается рассоединение мира и процесса его познавания субъектом. В общем, некий аналог опредмечивания в гегельянстве и марксистской философии.
В данной философии также используется термин «йога». Он означает психическую практику, целью которой является очищение сознания от текучих и спонтанных феноменов, вызывающих его наполнение. В буддизме йогачары эта своеобразная «атмосфера», в которой существует сознание, называется «алая-виджняна». В общем, йога в буддизме используется как процесс, который в рамках понятийного аппарата философии описывает процесс движения субъекта к нирване.
В отношении интересующей нас проблемы субъекта можно выразить заинтересованность в выкладках философии йогачары следующим образом. Это есть философия последовательного ограничения сферы активности субъекта психологической плоскостью. Деятельность субъекта здесь не бесконечна, она заканчивается при наступлении состояния нирваны. В этом состоянии субъект осуществляет «размыкание» связи собственных познавательных средств и внешнего мира. Можно сказать, нирвана есть состояние субъекта, когда объект дан ему сам по себе, а не в состоянии принципиальной связанности в субъект-объектных отношениях.
Намеренное неподведение предварительных итогов как по постмарксистской концепции, так и по индийским имело целью столкнуть эти концепции, проследить сдвижки в понимании, которые в этом вглядывании концепций друг в друга могут произойти.
Характерная черта любой индийской философии - её принципиальная практичность. Особенно ярко (и в то же время парадоксально) это выражено в философиях астики. Все шесть даршан разным образом решают одну и ту же задачу - достижение человеком освобождения, мокши. Каждая из них при этом должна преодолеть общую установку индийской культуры на служение - одно из определений универсального понятия «дхарма». Это напоминает классический марксизм. В нём предполагается наличие детерминирующих действия человека объективных обстоятельств наряду с установкой на преобразование этих обстоятельств посредством высвобождения творческой активности человека. Другое дело, что в индийской философии полем боя за инициативу в мироустроительстве является человеческий дух, а в марксизме - политическая и, шире, культурная сфера.
Переведём это в интересующую нас плоскость. Проблема в рассмотрении субъекта в индийской философии начинается уже с его определения. В философии санкхьи он принципиально и постоянно называется «духовный субъект»: « В основе любых калькуляционных опытов санкхьяиков всегда лежит базовая дифференциация первоматерии всех феноменов, именуемой Непроявленное (avyakta) или Пракрити (prakrti, букв, производящее), и духовного субъекта, именуемого Атман или Пуруша (purusa – муж); они выразительно противопоставляются друг другу как поле (ksetra) и познающий поле (ksetrajna) » [5, с. 13 ]. Буддизм вообще отрицает объективность существования человеческого «я». В важнейшей для индийской философии сфере духа мы получаем либо переусложнённую концепцию (в санкхье), либо вовсе буддийский нигилизм! Но всё встаёт на свои места, если мы возвращаем каждой концепции (санкхье-йоге и йогачаре) её позицию в отношении социокультурной активности.
Неоднократно отмечалось [3, 6], что функционирование индийской культуры есть проявление активности её философий. В особенности астики, шести даршан, признающих авторитет Вед. Эти системы философии напрямую встроены в социальную структуру посредством локализации в варне брахманов и через религиозно-ритуальную сферу.
Соответственно данной интерпретации структура деятельности любой даршаны соответствует тому, как в европейской философии представляется функционирование онтологического реализма - используемая философией знаковая система есть одновременно и система реально существующих вещей. В Индии это возможно благодаря инкорпорированности ортодоксальной философии в социальную жизнь. Соответственно, когда санкхья строит модель субъекта, то занимается не абстрактным теоретизированием, а важнейшей работой в интересах общества. И затем йога, которая транслирует разрабатываемую санкхьей концепцию непосредственно в плоскость психофизики, а из неё - во всё культурное целое: «истинная цель йо-гических упражнений – в переживании не определённых психо-физических состояний, а смыслов традиции, которые наполняют эти упражнения реальным содержанием. В этом смысле йога не более физиологична, чем, например, церковь как социальный институт христианства» [3, с. 101 ].
Иная ситуация с буддизмом, поскольку он не встроен в социальную жизнь Индии. Соответственно этому комплекс инструментов философствования (а также ключевых понятий) буддизма не включает в себя предполагающие социализацию. Данная ситуация похожа на ту, в которой вынужден функционировать постмарксизм и которая постмарксистской философией была отрефлексирована [1, с. 175-176 ].
Активность буддиста распространяется на сангху – буддийскую общину, которой безразлично, базируется она в Индии, Китае, Тибете и т.д. Затруднение, связанное с невозможностью локализации своей деятельности в процессе культуротворчества, буддизм разрешает с помощью сосредоточения на вопросах сознания, в том числе и вопросах администрирования сознания. Поясним этот момент: один из основополагающих тезисов буддизма постулирует всеобщность и неизбывность страдания в мире. Этот шаг позволяет открыть для буддизма возможность вживания в самые разнообразные культурные ареалы. Постмарксизм сходную ситуацию решает путём использования адаптивного стиля философствования постструктурализма. Разнообразные паттерны из самых разных культурных сфер объединяются посредством осуществляемой философом деятельности в единый контекст, связанный с конкретным дискурсивным полем. Примером может служить рассуждение С. Жижека из книги «Размышления в красном свете»: он последовательно обращается к абсурдному закону китайского правительства о запрете реинкарнации, затем к разрушению афганскими террористами из движения Талибан древних статуй Будды, а затем к пьесе П. Шаффера «Эквус», он вписывает совершенно различные события в единый контекст рассуждения о понятии «культуры», всё более теряющем реальность в условиях глобализирующегося мира.
Вернёмся к буддизму. В отличие от индуизма, чрезвычайно сложного для понимания извне, буддизм для этого понимания открыт, поскольку комплекс рассматриваемых им проблем выходит далеко за пределы индийского общества. Обращение к континууму психики (вместо спиритуалистически понимаемого концепта социально обусловленной зависимости в индуизме) универсализует буддизм, является одной из причин становления его мировой религией.
Марксизм в целом и постмарксизм в частности претендуют на преобразование социальной реальности. Это накладывает определённые обязанности в плане проработки концепции субъекта. С одной стороны, субъект детерминирован характерными особенностями объекта. С другой, ему предписывается быть достаточно активным для реализации преобразования социальной реальности.
Постмарксистская концепция субъекта сталкивается с проблемой соотнесения активности субъекта и готовой к восприятию этой активности материи социума. Как мы рассмотрели, в постмарксизме разрабатываются различные варианты локализации субъекта: Лакло и Муфф помещают его в нестабильное, изменчивое поле борьбы дискурсов в политической плоскости, Славой Жижек – в плоскость общественной психологии. В обоих случаях смешение различающихся сфер локализации субъекта детерминирует сложность при попытках последующего «сшивания» воедино искусственно разъединённых субъекта и места проявления его активности.
Подведём итоги исследования, собрав воедино сдвижки в понимании проблематики субъекта в постмарксизме, возникшие посредством сравнительного анализа с индийской философской традицией.
Опыт обращения к компаративному анализу постмарксизма и индийской философии заставляет обратить внимание на несколько моментов. Первый из них заключается в том, что успешное разрешение проблемы субъекта зависит от корректной локализации, соотнесения именно с тем объектом, который позволит наиболее полно реализовать активность субъекта. Если тот же самый момент инвертировать, то можно увидеть разрешение ещё одной проблемы – недопустимо использование в рамках одной философской концепции локализации субъекта в нескольких сферах одновременно.
При этом можно выделить ещё пункт, который связывает постмарксизм и буддийскую философию, – невозможность осуществления непосредственного культуротворчества заставляет разрабатывать концепцию субъекта с учётом отзывчивости на изменения культурной среды, поликультурную. Подобная философия вынуждена быть коммуникабельной по отношению к другим философиям, рождая возможность включения в диалог в рамках одной культуры и даже возможность выхода за её рамки. Это и было продемонстрировано буддизмом в последнее тысячелетие.
Учитывая тот факт, что в Европе как социальные изменения, так и генезис философских концепций происходят гораздо более интенсивно, история развития постмарксизма (и его концепции субъекта) в последние два десятилетия достаточно наглядно показывает, как в сходных социокультурных обстоятельствах система философствования реагирует на изменения этих обстоятельств, а также, какие метаморфозы при этом возможны и действительно происходят.