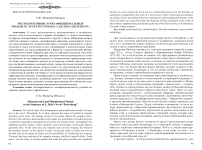Метанарративные и метафикциональные модели в структуре романа А. Белого «Петербург»
Автор: Моисеева Екатерина Юрьевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Нарратология
Статья в выпуске: 4 (63), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются метанарративные и метафикциональные модели повествования в романе «Петербург» А. Белого, анализируется природа многоуровневых смысловых структур в прозе. Избираемая автором стратегия отражает сложную саморефлексию нарратива, демонстрирует читателю новые возможности модернистской прозы, в которой необычность и притягательность текста достигается за счет «встраивания» в дополнительные планы повествования, где герои превращаются в формулы, стереоскопические фигуры, геометрические линии. Нарратив, при этом, не утрачивает цельности, нить повествования остается в руках нарратора, заставляя читателя размышлять не только над сюжетом, но над природой вымысла и возможностями вербализации смысла. Роман часто подвергался критике из-за чересчур сложной структуры, которую сам Белый именовал «мозговой игрой», однако актуальной задачей остается исследование моделей письма, которые делают эту игру возможной и значимой, превращая роман событийное для литературы модернизма явление, сопоставимое с творчеством Д. Джойса и Ф. Кафки. С точки зрения исторической нарратологии, характеристика ключевых метанарративных и метафикциональных особенностей романа позволит проследить дальнейшее развитие этих техник в произведениях более поздних авторов, дополняя и уточняя представление об особенностях литературного процесса наследования определенных способов письма.
Метанарративность, метафикциональность, русский модернизм, модели прозы, нарратология
Короткий адрес: https://sciup.org/149141272
IDR: 149141272 | DOI: 10.54770/20729316-2022-4-92
Текст научной статьи Метанарративные и метафикциональные модели в структуре романа А. Белого «Петербург»
Для поклонников и последователей Андрея Белого «Петербург» стал своего рода визитной карточкой русского модернизма, доказательством того, что о модернизме можно говорить в контексте русского романа, а не только в связи с европейской традицией.
Владимир Набоков называл его «третьим шедевром мировой литературы XX в. - после «Улисса» Джойса и «Превращения» Кафки [Nabokov 1973, 85]. Это в последствии не мешало ему пародировать ритмическую прозу Андрея Белого, именуя импровизацию «капустным гекзаметром», -но роман он оценивал очень высоко, и позднее, во многом основываясь на мнении Набокова, некоторые западные исследователи стали высказывать мысль о том, что Белый предвосхищает Джойса, выходит за рамки и пределы национальной литературы, и что его роман необходимо принимать во внимание, говоря о европейском модернизме в целом.
Далее следует принять во внимание некое противоречие в оценках места, которое занимает роман в отечественной литературной традиции. С одной стороны, едва ли не чаще всего в контексте рассуждений о «Петербурге» звучат слова «о продолжение традиций», прежде всего - пушкинских. Одним из героев романа, как мы помним, является Медный всадник, который самым каноническим образом преследует героя, затем это продолжение традиций Гоголя - ритмизованная наррация, орнаментальная проза, мастерство «мистического повествования», включающее многочисленные параллели с «Петербургскими повестями», «Мертвыми душами» и другими произведениями. Многие из них Белый успешно проводит сам в книге «Мастерство Гоголя». Далее, постоянно и намеренно, по воле автора, перекликается с «Братьями Карамазовыми» Достоевского. В центре фабулы романа - отцеубийство, переклички на уровне композиции, в названиях глав, в описании нравственных страданий героев, которые пропитаны эсхатологическими мотивами, предчувствием приближения неминуемого апокалипсиса.
Кроме того, роман Белого считается не просто продолжением петербургского текста русской литературы, но в некотором смысле и завершением его, поскольку описываемый Петербург 1910-х гг. совсем скоро превратится в Петроград, а затем - в Ленинград, и так далее, но пока - это такая серьезная, иногда даже нарочно акцентированная включенность в традицию, своеобразная дань ей.
С другой стороны - это безусловное новаторство, оригинальность, гра-

ничащая с абсурдом, которая ставит роман в один ряд с самыми смелыми модернистским экспериментами Джойса, Кафки и целого ряда других авторов.
А.И. Солженицын замечал по поводу романа следующее: «Надо признать: нечто - до того совсем не виданное в русской прозе, полностью рвет с обстоятельным, спокойным рассказом со стороны в духе XIX в. Нельзя отказать, что литературно - это очень интересно. Раздвигает представления о возможностях прозы. Очень новаторски, из этого вышло многое в литературе 1920-х гг. (хотя истинного толку не вышло, может быть от советской идеологической утюжки)» [Солженицын 1997, 193].
В числе прочих особенностей, поворот к новой форме и болезненной оригинальности кроется в способе повествования, в той принципиально сложной структуре наррации, которую предлагает читателю Андрей Белый.
Он, разумеется, использует совершенно конкретные и востребованные литературой модернизма метанарративные приемы, такие как открытые рассуждения нарратора о своей роли, о языке повествования, стиле и так далее. Нарратор в тексте изначально находится в такой позиции, которую можно обозначить известной бахтинской формулой о свидетеле и судии.
Создается ситуация, когда все герои неустанно следят и шпионят друг за другом, Вяч. Иванов, говоря о романе, назвал эту позицию выслеживания «метафизическим сыском» - это взаимонаправленные маневры, подсматривание, представление себя другим человеком, осознание того, что другой - фантом, порождение «мозговой игры», подсознания, и нарратор - а следом за ним и читатели фактически заняты тем же самым: «В нами взятом естественном сыске предвосхитили мы лишь желание сенатора Аблеухова, чтобы агент охранного отделения неуклонно бы следовал по стопам незнакомца, <.. .> и пока легкомысленный агент бездействует в своем отделении, этим агентом будем мы» [Белый 2022, 17].
При этом нарратор следит за героями не как сыщик, сам процесс сыска его занимает мало - он следит, как художник за своими творениями - и этот избыточный взгляд отчасти делегирует читателю, который вместе с ним обретает способность «приподнимать и рассматривать» героев, замедлять или вовсе останавливать время повествования, перебивать говорящих, чтобы порассуждать о том, как звучит их речь - одним словом используя весь арсенал метанарративных средств, известный еще по романам Стерна, превращающих само повествование не только в предмет рассмотрения, но в предмет постоянных сомнений - а нужно ли было это говорить? Верно ли это было сказано? - и игры. Однако это игра, предупреждает нас нарратор «только маска; под этою маской совершается вторжение в мозг неизвестных нам сил: и пусть Аполлон Аполлонович соткан из нашего мозга, он сумеет все-таки напугать иным, потрясающим бытием, нападающим ночью» [Белый 2022, 28]. В более поздних сочинениях Аполлон Аполлонович зажил вне романа и «начал мстить за попытку дать лик его миру; он всюду таскался за мною. <.. .> Видел его я отчетливо (в подлинном виде) <.. .> стоял - ОН, мой враг...» (здесь и далее маюскул оригинала-Е.М.) [Белый 2011, 376].
Таким образом, мы видим, что «игра», затеянная автором, представляет собой не развлечение и не попытку запутать читателя, свойственную многим произведениям постмодернизма - Белого занимают вопросы бытия смысла и бытия воображения - наравне с метанарративным устройством текста, можно говорить о метафикциональных построениях, поскольку перед нами «шкатулочный» принцип повествования, который раскрывается не только через фреймы наррации, но через фреймы образа, где опять же по Бахтину, природа сотворенная и природа творящая - преобразуются друг в друга.
Аполлон Аполлонович был в известном смысле как Зевс: из его головы вытекали боги, богини и гении. Мы уже видели: один такой гений (незнакомец с черными усиками), возникая как образ, забытийствовал далее прямо уже в желтоватых невских пространствах, утверждая, что вышел он - из них именно: не из сенаторской головы; праздные мысли оказались и у этого незнакомца; и те праздные мысли обладали все теми же свойствами. Убегали и упрочнялись.
И одна такая бежавшая мысль незнакомца была мыслью о том, что он, незнакомец, существует действительно; эта мысль с Невского забежала обратно в сенаторский мозг и там упрочила сознание, будто самое бытие незнакомца в голове этой - иллюзорное бытие.
Так круг замкнулся [Белый 2022, 28].

Даже провокатор Липпанченко оказывается своего рода антиподом сенатора Аблеухова - и на тот случай, если мы усомнимся в подобной конструкции, Белый сам обращает на нее наше внимание в книге «Мастерство Гоголя», добавляя, что и сам звуковой образ имен героев дает нам соответствующие подсказки:
Я же сам поздней натолкнулся на удивившую меня связь меж словесной инструментовкой и фабулой (непроизвольно осуществленную); звуковой лейтмотив и сенатора и сына сенатора идентичен согласным, строящим их имена, отчества и фамилию: «Аполлон Аполлонович Аблеухов»: сопровождает сенатора; «Николай Аполлонович Аблеухов»; все, имеющее отношение к Аблеуховым, полно звуками пл-бл и кл. Лейтмотив провокатора вписан в фамилию «Липпанченко»: его лпп обратно плл (Аблеухова); подчеркнут звук ппп, как разроет оболочек в бреде сенатора, - Липпанченко, шар, издает звук пепп-пеппе: «Пейп Пеппович Пейп будет шириться, шириться, шириться; и Пейп Пеппович Пейп лопнет: лопнет все [Белый 2011, 304].
Тот пласт, который Белый обозначает как звуковые лейтмотивы и звуковые узоры - вообще звукописью в романе - это самостоятельная исследовательская проблема, поскольку перед нами не просто ритмизация прозы, но процесс превращения и приближения ее к лирике. Метафоры, повторы, лейтмотивы, которые часто подменяют собой композицию, множественность оттенков слова или звука, складывающихся в смысловые паттерны. При этом Белый решает вопросы лирической стилизации нарративными средствами, которые, безусловно, преобладают в тексте, и он не превращается в «лирический», так что его нельзя в полной мере соотнести с произведениями орнаментальной прозы, которые строятся по поэтическим принципам.
Белый, несомненно, использует поэтические принципы в работе и задумывается не только о ритме, но и о звуке, но при этом несущими конструкциями в произведении оказываются метанарративные и метафикци-ональные модели письма.
И если метанарративность позволяет ему регулировать повествование и перенаправлять читательское внимание на те аспекты, которые в настоящий момент представляются наиболее важными, то метафикциональ-ность позволяет в полной мере обнажать проблемность сознания и подсознания, многомерность творческого воображения, в котором ключевые герои представлены сквозь призму восприятия друг друга и в известной степени искажены этой призмой в мерцающей достоверности.
Даже Петербург, как мы узнаем еще начале романа, существует не вполне достоверно: по этому поводу нарратор предлагает нам следующее рассуждение:
Если же вы продолжаете утверждать нелепейшую легенду - существование полуторамиллионного московского населения - то придется сознаться, что столи-96
цей будет Москва, ибо только в столицах бывает полуторамиллионное население; а в городах же губернских никакого полуторамиллионного населения нет, не бывало, не будет. И, согласно нелепой легенде, окажется, что столица не Петербург. Если же Петербург не столица, то - нет Петербурга. Это только кажется, что он существует [Белый 2022, И].
По отношению к этой кажимости, где нарратор не скрывает, искусственной природы повествования, и относится к своей роли именно как к роли, определенному месту в событии рассказывания, находясь в котором он в полной мере осознает свои полномочия, озвучивает и описывает приемы, которые использует, он, тем не менее, парадоксальным образом сам верит сказанному и заинтересован в его достоверности.
Он чрезвычайно серьезно относится к вымыслам своим и своих героев, поскольку они вполне жизнеспособны, могут нарушать границы и проникать не только в разные уровни нарратива, но и выходить за пределы диегетического мира.
Разумеется, для искушенного читателя нынешнего века это не сенсация, и речь не только о современной литературе. Уже в творчестве Набокова мы встречаем очерк о немецком пенсионере, который сидит напротив него в парке, но при этом порожден воображением рассказчика, а рассказчик порожден воображением Набокова. Этот прием «нарушения границ» оказывается одним из излюбленных и у Борхеса, у которого в рассказе-притче «В кругу развалин» каждый персонаж является порождением сна сознания другого персонажа, и главный герой понимает, что он тоже призрак, который грезится читателю, и тут уж настает очередь читателя задуматься над собственной, по выражению Рикера, «повествовательной идентично стью».
В этом контекстном ряду можно упомянуть Кортасара, Роб-Грийе, Милорада Павича - но все это будет несколько позже, а в самом начале века -первая редакция «Петербурга» датируется 1912 г, - на ум приходят только сопоставления с Джойсом и Кафкой, если следовать линии не преемственности, но новаторства в модернистской литературе.
При этом важно помнить, что впечатления нагромождения вымыслов или хаотичности текста - кажущееся, роман часто называют параноидальным - не в том смысле, что он подчиняется «логике бреда» и отдает себя на волю сюрреалистических построений, напротив - самые странные события и самые сложные галлюцинации подчинены жесткой структуре сюжета - в основе которой - не просто попытка отцеубийства, но теория заговора революционной ячейки, за которой - вся революция, за которой -конец света, как минимум - конец Петербурга и всего старого миропорядка, который хоть и представляется временами абсурдным - как квадрат черной кареты на фоне кубических зданий и линии Невского проспекта -тем не менее, существует, а скоро существовать перестанет - и вот это в высшей степени реалистическое ощущение не дает читателю погрязнуть в фантазиях героев, потому что в главном автор не ошибается.
Что же касается его манеры, то кажущаяся хаотичность и порывистость текста часто является результатом весьма точного синтаксического расчета и собственно лингвистического анализа, к которому Белый был, без сомнения, склонен. В «Мастерстве Гоголя» он сравнивает построение пушкинской и гоголевской фраз:
Стереотип прозаической фразы Пушкина: она - коротка; она точками отделена от соседних: существительное, прилагательное, глагол, точка; строй таких фраз подобен темперированному строю Баха. У Гоголя фраза взорвана, разметанная осколками придаточных предложений, подчиненных главному, соподчиненных между собой; нарушено равновесие между существительным, прилагательным, глаголом; «взглянул <...> на листики, на мужиков, которые <...> когда-то <...> работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали» (2 существительных, 5 глаголов); или: «черство, неотесанно, неладно, нестройно, нехорошо...» (5 наречий) [Белый 2011, 332].
Здесь можно вспомнить, что Цветан Тодоров предлагал взять за основу дифференциации различных нарративных уровней, то есть различных уровней повествовательной погруженности, позволяющих различать истории первого уровня, второго и так далее, теорию синтаксических «вложений». На примере «Петербурга» мы видим, как многочисленными метанарративными и метафикциональными вложениями обеспечивается скрытая динамика романа.
Эта многоплановость распространяется и на функции нарратора: пролог начинается как сказ, а заканчивается как проповедь - на высокой ноте серьезной риторики. Нарратор постоянно вторгается в повествование, останавливает его или начинает заново.
Аполлон Аполлонович Аблеухов был весьма почтенного рода: он имел своим предком Адама. Здесь мы сделаем переход к предкам не столь удаленной эпохи [Белый 2022, 18].
Здесь, в самом начале, должен я прервать нить моего повествования, чтоб представить читателю местодействие одной драмы. Предварительно следует исправить вкравшуюся неточность: в ней повинен не автор, а авторское перо: в это время трамвай еще не бегал по городу: это был тысяча девятьсот пятый год [Белый 2022, 13].
При этом нарратор не скрывает своей неосведомленности - он ссылается на слухи, сплетни, газетные вырезки, и, хотя именует героев «своими» - «моему сенатору только что исполнилось шестьдесят восемь лет»; вернемся к моему незнакомцу с черными усиками - их речи и поступки часто становятся для него сюрпризом. А когда речь идет об описании «шума Невского проспекта», то здесь рассказчик и вовсе обращается в наблюдателя, предоставляя слово Невскому:
-
- «Вы знаете?» - пронеслось где-то справа и погасло в набегающем грохоте.
И потом вынырнуло опять:
-
- «Собираются...»
-
- «Что?»
-
- «Бросить...»
Зашушукало сзади [Белый 2022, 13].
В «Записках чудака» Белый называет свой роман «иллюзорным», «умозрительным», «эсхатологическим» и все это, безусловно, справедливо, особенно, когда читатель смотрит на мир с точки зрения Аблеухова-старшего:
И вот, глядя мечтательно в ту бескрайность туманов, государственный человек из черного куба кареты вдруг расширился во все стороны и над ней воспарил; и ему захотелось, чтоб вперед пролетела карета, чтоб проспекты летели навстречу — за проспектом проспект, чтобы вся сферическая поверхность планеты оказалась охваченной, как змеиными кольцами, черновато-серыми домовыми кубами; чтобы вся, проспектами притиснутая земля, в линейном космическом беге пересекла бы необъятность прямолинейным законом; чтобы сеть параллельных проспектов, пересеченная сетью проспектов, в мировые бы ширилась бездны плоскостями квадратов и кубов: по квадрату на обывателя» [Белый 2021, 178].
Однако роман как целое представляет собой очень прочную нарративную конструкцию, где использование метанарративных и метафикцио-нальных моделей создают своего рода динамическое равновесие, которое позволяет, с одной стороны, совершенно свободно управлять произведением и читательским вниманием в нем, вкладывая или вытаскивая главы, рассуждения и цитаты, или повторяя какие-то эпизоды, делая их ритмически заданными, а с другой делая эту игру с формой онтологически значимой, благодаря постоянной рефлексии надо сознанием и подсознанием не только героев, но и самой литературы, а значит, и ее читателей.
В русской литературе новаторство Белого не оспаривается. «Джемс Джойс для современной европейской литературы является вершиной мастерства. Надо помнить, что Джемс Джойс - ученик Андрея Белого», -писали в некрологе Белому в 1934 г. Борис Пастернак, Борис Пильняк и Григорий Санников.
Список литературы Метанарративные и метафикциональные модели в структуре романа А. Белого «Петербург»
- Белый А. Петербург. СПб.: Азбука-Аттикус, 2022. 448 с.
- Белый А. Мастерство Гоголя. М.: Книговек, 2011. 416 с.
- Белый А. Записки чудака. М.: RUGRAM, 2021. 388 c.
- Солженицын А.И. "Петербург" А. Белого. Из "Литературной коллекции" // Новый мир. 1997. № 7. С. 191-197.
- Гаспаров М. Л. Белый-стиховед и Белый-стихотворец // Белый Андрей. Проблемы творчества. М.: Советский писатель, 1988. 460 с.
- Nabokov V. Strong Opinions. New York: McGraw Hill Book Company, 1973. 335 p.