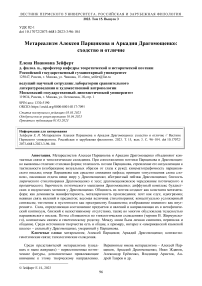Метареализм Алексея Парщикова и Аркадия Драгомощенко: сходство и отличие
Автор: Зейферт Е.И.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Метареалистов Алексея Парщикова и Аркадия Драгомощенко объединяют контактные связи и типологические схождения. При сопоставлении поэтики Парщикова и Драгомощенко выявлены отличия: стиховая форма; телесность поэзии Парщикова, стремление его визуализации к тактильности (изображение визуальных образов от глаза к руке); кинематографичность парщиковского письма; юмор Парщикова как средство снижения пафоса; принцип «опустошения слова словом», пассивная отдача вещи миру у Драгомощенко; абстрактный пейзаж Драгомощенко; близость лирического стихотворения Драгомощенко к эссе; драгомощенковское чередование поэтического и прозаического; барочность поэтического мышления Драгомощенко; диффузный комплекс буддистских и индуистских мотивов у Драгомощенко. Общность их поэтик создают как константа метаметафора; как доминанты манифестарность, металиричность произведения; поэт как слух; идеограмма; неявная связь явлений и предметов; весомая величина стихотворения; концептуально усложненный синтаксис; тяготение к пустотности как пространству блаженства; изображение внешнего как внутреннего. Сила, определяющая соотношение предметов и явлений и направляющая их в метафизический континуум, близкий к непостижимому отсутствию, также во многом обусловлена телесностью парщиковского письма. Поэты сближаются по типологическим схождениям (термин В. Жирмунского), контактным связям и генетическому родству. Между ними была личная симпатия, переписка и общение. Среди источников творчества есть и общие, к примеру, интерес к «американской языковой школе» - сильный у Драгомощенко, умеренный у Парщикова.
Метареализм, алексей парщиков, аркадий драгомощенко, контактно-генетические связи, типологические схождения
Короткий адрес: https://sciup.org/147241912
IDR: 147241912 | УДК: 82-1 | DOI: 10.17072/2073-6681-2023-3-96-104
Текст научной статьи Метареализм Алексея Парщикова и Аркадия Драгомощенко: сходство и отличие
Среди представителей метареализма (ушедших и ныне живущих) – первостепенные поэтические фигуры, дополнительно привлекающие внимание к этому творческому направлению.
Вершинные имена метареализма – Алексей Пар-щиков, Аркадий Драгомощенко, Иван Жданов, Александр Ерёменко, Владимир Аристов, Андрей Тавров и др.
Метареализм изучался в трудах М. Эпштейна, К. Кедрова, О. Северской, Д. Голынко-Вольфсона, К. Корчагина и других исследователей [Кедров 1984, 1989; Эпштейн 1986; Северская 2007; Го-лынко-Вольфсон 2003; Корчагин 2021]. Данное творческое направление также рассматривалось в диссертационных исследованиях [Князева 2000; Токарев 2017; Чижов 2016].
М. Эпштейн – автор «Тезисов о метареализме и концептуализме» (1983) и манифеста метареализма (1986) – говорит об этом явлении как о стилевом направлении в отечественной литературе и искусстве, сложившемся в 70-е гг., но приобретшем известность в 80-е гг. [Эпштейн 2021; Эпштейн 1988: 185; Эпштейн 2005: 112]. Термин «метареализм» возник, по мнению ученого, в декабре 1982 г., после вечера гиперреалистов в Доме художника. Исследователь предлагает термин «метабола» как «смещение» в иное, «бросок» в возможное («метабола» буквально означает «сверхбросок», «переброс», «перемещение», «поворот») [Эпштейн 2017].
Знаковый исследователь метареализма в области лингвопоэтики – Ольга Северская [Северская 2007]. Она, в частности, отмечает, что в построении грамматики образных высказываний школа метареализма как будто исходит из принципов «Риторики образа» Р. Барта [Барт 1989: 317–318].
Уже в 2003 г. Д. Голынко-Вольфсон, говоря об «игнорировании» метареализма, использует кавычки: «Слово “игнорирование” здесь взято в кавычки, поскольку оно, безусловно, дает основания упрекнуть автора в сильном преувеличении или даже фактической неточности: за прошедшее десятилетие опубликованы антологии и персональные сборники, добротно представляющие поэтов, объединяемых под прижившейся, но эвристически спорной этикеткой “метареалисты”» [Голынко-Вольфсон 2003: 32–33]. Исследователь выделяет среди примет метареализма «лингвистический универсализм» и «лингвистическое членение, “разъятие” исторической последовательности» [там же: 36].
Метареализму свойственно повышение удельного веса слова. А. Парщиков в своем эссе «Ситуации» называет такие признаки свойственной ему поэтики, как «пространственная драматургия» предметов, намерение предмета стать другим или развоплотиться до пустоты; «замораживание скорости», замена динамики статикой, торможение, статуарность жеста; тождество феноменов, близнечность явлений или предметов, возможность их сличения с непостижимым инвариантом; гиперпредметность; фрактал (термин Мандельброта) – нахождение одного образа внутри другого; выпад из систематичности в зо- ну ошибочности, беззащитности, неопознанно-сти; повторы как свободная творческая зона, а не вода, куда нельзя войти дважды [Парщиков 2006: 32–33]. Пример фрактала: на картине Дюрера «Художник, рисующий лютню» мы видим художника, рисующего лютню, и художника, рисующего художника, рисующего лютню. Так рождается галерея образов.
Метареализм – сугубо русское явление, однако привлекающее внимание и зарубежных ученых, и не только представителей эмиграции. Современные зарубежные ученые изучают как метафору вообще [Lakoff 1989], так и метафору метарелистов. На наш взгляд, спорно соотнесение художественных миров Ольги Седаковой и Ивана Жданова, которое предлагает S. Sandler [Sandler 2006].
Два самобытных метареалиста первого ряда – Алексей Парщиков и Аркадий Драгомошенко: в чем – при их отличии – их общность? Интересно увидеть родство Драгомощенко и Парщикова и различие их поэтик.
Поэзия А. Парщикова как метареалиста представала предметом глубокого изучения. Ссылки на источники о Парщикове даны в нашей статье о силе в его поэзии [Зейферт 2020: 116]. Аркадий Драгомощенко по своей поэтике метареалист, хотя сам говорил о своем отличии от метареалистов. Из интервью Н. Курчатовой с А. Драгомо-щенко:
– Вас в «Википедии» сопрягают с метареалистами – насколько это справедливо, на ваш взгляд?
– Меня все же связывают с ними скорее дружеские отношения, чем философская, мировоззренческая общность. И мы прекрасно это понимаем. Метареалисты считают, что каждое поэтическое действие – это прибавление к тому миру, в котором мы находимся. Я же считаю, что нет. Что это создание некоего отсутствия, которое втягивает мир со всех сторон. Так был создан мир – Бог ничего не прибавлял, он убрал себя. Если вы посмотрите на апофатическое богословие, то это из той же оперы, как если бы мы обсуждали творчество Беккета с категорией отрицания через отрицание, когда каждая следующая фраза отменяет предыдущую. Бог это «не то», «не то» и «не это». Если теология – это наука, пытавшаяся объяснить мир в период до появления квантовой механики, то поэзия – это метод познания [Курчатова 2009].
Как о метареалисте о Драгомощенко говорит ряд ученых, к примеру Г. Заломкина [Заломкина 2014]. В основном изучалась его поздняя лирика. Ссылки на своих предшественников – исследователей Драгомощенко мы приводим в нашей работе о его «зрелом преждевременном произведении» [Зейферт 2021: 215].
Оба поэта – одни из наиболее сильных новейших русских авторов. А. Драгомощенко открыт английскому миру через контакты с американской «языковой школой поэзии» [Устинова 2013] (Л. Хеджинян и др.), Парщиков, в силу жизненных обстоятельств, – в меньшей мере английскому (в 1991 г. уехал в США, где получил степень магистра с работой по Пригову; по воспоминаниям вдовы Аркадия Драгомощенко Зинаиды, Аркадий в США познакомил Алексея с американскими поэтами, но «тот был не в восторге», хотя и начал переводить Майкла Палмера, о чем сообщает его супруга З. Драгомощенко в письме ко мне от 23 марта 2022), в большей мере – немецкому (в 1995 г. эмигрировал в Германию). Парщиков по поэтике близок «языковым поэтам», с интересом переводил Палмера и Уотенна, поддерживал с ними тесные отношения, но растворенность в этой школе, присущая Драгомощенко, ему, конечно, не была свойственна. Имеется совместная фотография Лин Хеджинян и Аркадия Драгомощенко, сделанная Алексеем Парщиковым.
Выше других постмодернистов Драгомощен-ко ценил Р. Барта, проявлял интерес к другим французским авторам [Корчагин 2020]. Парщи-ков с его визуальным, идущим от глаза к руке, проявлял глубокий интерес к творчеству американского художника и скульптора Александра Колдера. Проблема общих источников у Парщи-кова и Драгомощенко нуждается в обстоятельном изучении.
В. Аминева обращает внимание на то, что Д. Дюришин пишет о правомерности взаимосвязи «контактно-генетических связей» и «типологических схождений» при исследовании [Аминева 2014: 38]. Между Парщиковым и Драгомо-щенко – энергетически сильное пространство диалога. Здесь работают равноценный значительный дар обоих, круг общих источников, типологические схождения, генетическое родство и контактные связи (имели место переписка, личное общение, приятельские отношения или скорее не близкая дружба). Зинаида Драгомощенко, вдова поэта, вспоминает, что впервые «Алексей Парщиков появился у нас дома с поэтом Ильёй Кутиком в 1982 г. У них вечером было чтение в Клубе-81. Затем, по свидетельству З. Драгомо-щенко в письме от 23 марта 2022 г., были встречи в Москве, в Сан-Диего».
Драгомощенко рассказывает о своих впечатлениях от личности, амбивалентного образа, визитов и, конечно, поэтики Парщикова в эссе «Верхние слои атмосферы» [Драгомощенко 2012]. «Полагаю, – говорит поэт, – мало кто понимает, что Парщиков был последним, самым изощрённым оплотом конвенционального, классического стиха» [Драгомощенко 2009: 39]. О поэтической практике Парщикова («находил и осваивал кротовые норы перехода от символических диспозиций языка к семиотическим, он открывал условия порождения той гетерогенности, в которой ему, как поэту, было намного легче возвращать утраченное в не иссякающем многословии») Драгомощенко пишет, отвечая на вопросы Д. Бавильского в литературно-философском журнале «Топос» [Драгомощенко 2012].
Аркадий после ухода Алексея из жизни написал стихотворение «Я не верю, что так закончилось, вообще не верю, нет…» с посвящением «Алексею Парщикову» и датой в начале произведения «воскресенье, 10 мая 2009 г.». Синтаксические и лексические повторы, параллелизмы, сверхдлинные натянутые строки практически равной длины, парщиковские мотивы («дирижабли», «стада», «нефть»), застывшая динамика («в гипсе поз и речи», «руки медленны, исчезают из взгляда») создают произведение похожим на парщиковское. Обратим внимание на не свойственный Драгомощенко параллелизм:
Низко посаженные глаза
Близко посаженные глаза
(Цит. по рукописи:
из личного архива З. Драгомощенко)
Эта синтаксическая фигура похожа на коронное для Парщикова лексико-синтаксическое подобие:
одновременно: телу, почти обращённому в газ, одновременно: газу, почувствовавшему упор.
[Парщиков 2014: 96]
В одном из писем к Драгомощенко Парщиков пишет: «Аркадий, я чаще всего возвращаюсь к твоим книгам» [Фанайлова 2022]. У Парщикова в личном компьютере была папка «Драгомощен-ко», куда он складывал письма к нему и от него. Эта папка пригодилась для составления книги «Кёльнское время», над которой работали вдова Алексея Екатерина Дробязко и Андрей Левкин. Об Аркадии Драгомощенко Парщиков пишет в «Кёльнском времени» и в «Рае медленного огня». В эссе «Ситуации» Парщиков развивает один из своих тезисов, опираясь на мастерство Драгомощенко: «Развоплощаясь на нулевой отметке своего энергетического состояния, предмет отбрасывал уже не тень под остановленным солнцем, а свою харизму, которую так описывал Аркадий Драгомощенко: ”...но как застывшая в щели броска, // между орлом и решкой, монета – кривизна намерения...”». Самость видимого открывается в «намерении» предмета стать другим или развоплотиться до пустоты, предъявить свою материальную исчерпанность. «Ушли на дно. Туда, где вечный шах...»; «Время заблоки- ровано» [Парщиков 2008: 24]. Отзывы Парщи-кова об Аркадии Драгомощенко в эссе и письмах говорят о большой близости их поэтического мировидения. Вопрос литературного взаимодействия Парщикова и Драгомощенко нуждается в монографическом изучении.
Творчество Алексея Парщикова – одна из моих многолетних научных магистралей. Благодарю организаторов II Международного фестиваля им. Алексея Парщикова (Германия, Берлин, июнь 2021) за оказанную мне честь стать лауреатом премии фестиваля, также известной как Alexei-Parshchikov-Preis. Мне интересно наблюдать за жизнью метареализма сквозь многогранную призму: с одной стороны, я сама создаю ме-тареалистические стихотворения и поэмы (не только метареалистические; бурлящий всплеск метареализма в моей лирике – 2015–2018 гг., пик – 2016 г.), с другой – являюсь исследователем метареализма, при преподавании в университете немало говорю об этом творческом направлении среди других и в своем литературном клубе «Мир внутри слова», провожу чтения для поэтов, в том числе для поэтов-метареалистов. Многолетнее изучение поэзии А. Парщикова привело меня к следующим результатам. Рано прошедшая кристаллизацию поэзия Парщикова, «ранняя зрелая», характеризуется такими чертами, как метаметафора как монада; телесность; оцельня-ющая сила, определяющая соотношение предметов и явлений и направляющая их в метафизический континуум, близкий к непостижимому отсутствию; хронотопические лакуны; сверхдлинная натянутая силлабо-тоническая строка; весомая величина стихотворения при исчерпанности и одновременно максимальной открытости лирического сюжета; множащиеся образы (сфера в сфере; принцип матрёшки), рождающие аура-тичность художественного слова; внешнее как внутреннее; лексические и синтаксические повторы, работающие как угасание эха; доминирование визуального по принципу «от глаза к руке»; поэтический текст как кинолента; юмор как средство снижения пафоса.
Рассмотрим совокупность этих средств на примере стихотворения Парщикова «Добытчики конопли». Сверхмедленное многократное прочтение Парщикова выявляет метаметафору как монаду: каждый метафорический элемент произведения одновременно словно включает в себя весь мир художественного целого.
Парщиков начинает с полезных свойств конопли, из которой делают бечеву («со складов пеньки канатной»), но уже, изменяя семантику мотива каната (страховочная система, экстрим: «снимки канатов, сброшенных с высоты, всем хорошо известны (так ловят сердечный ёк)»), опрокидывает навзничь положительные смыслы.
Два лирических персонажа («Он в тряпках цвета халвы, а подруга – в рубахе мреющей»), незаметный парень и более зримая девушка, отличаются только по одежде, а в своем гибриде уже теряют индивидуальность. В их создании работают все органы чувств, но особенно – зрение и тактильность, усиливающие телесность образа. Лирические персонажи полунагие. В «Добытчиках конопли» Парщиков, как всегда, включает доминирующее визуальное, переходящее в тактильное: от глаза к руке. Цветовая гамма монотонности, безликости («пыльный», «бежевый» (цвет пеньки), «дымовый», «цвета халвы») контрастирует с кинестетикой радости – искусственной («В их пальцах шуршат облатками лёгкие препараты», «в бухты-барахты, в обороты и протяжённость ворсистых канатов кольчатых падает пара демонов в смех и азарт стараний, пускаясь в длину и распатлываясь вместе или по очереди», «Облепленная пыльцой, мычала, снимая пасту пыльцы с живота на бумагу полукружьем металла») и подлинной, представленной через сравнительное отрицание («не пейзаж в Толедо, но всё ж ветерок берёт под локоток локатор на горизонте»). Добытчик конопли ущербен («схватку глухонемых мог бы судить анатом») или вовсе теряет человеческую природу – «пара демонов», «облепленная пыльцой, мычала», «к складам близятся двое – подобны зыбям или скатам, на чём нельзя задержаться, касания к ним заколдованы»). Пространство, и без того искажённое старыми руслами рек («здесь с карты сбивают старицы», «Как под папиросной бумагой – переползание стариц»), множится, создавая новую карту местности: «Новая карта местности... и оцепеневшие в линзах пустынь – совокупности стад. Цепляющаяся орава ущелий за окоёмом».
«Замораживание скорости», замена динамики статикой, торможение, статуарность жеста в «Добытчиках конопли» Парщикова направлены на перерождение внешнего ландшафта:
Тень с бумагой и лезвием счищает пыльцу с попутчика, и клавишные рельефы горбят бумагу, словно новая карта местности.
[Парщиков 2008: 27]
Замедленность восприятия мира может быть свойственна человеку, находящемуся под воздействием каннабиса (см. в другом стихотворении А. Парщикова «Минус-корабль»: «как будто от анаши, глазные мышцы замедлились»). Даже стремительный процесс («без удержу», «навёртываясь на резкость») утяжеляется подробностя- ми, разворачивается отдельными кадрами, сно-видческой оптикой, «мучает разбег». Форма предметов изменяется («кос, как стамеска, бык»), что подчеркивается и трансформацией слов («изъяв» – вероятно, изъявление и изъян одновременно – манифестирует химеру, наркотический перфоманс). Добытчики конопли уже не бегают по полю, а «лежат», притягивая к себе морок:
Сон: парусные быки из пластиковых обрезков по помещеньям рулят в инговой форме без удержу... Кос, как стамеска, бык. Навёртываясь на резкость, канат промышляет изъявом: вот так я лежу и – выгляжу.
Так двое лежат и – выглядят, а на дымовых помочах к ним тянется бред собачий, избоченясь в эспандерах и ложноножках пределов, качаясь, теряя точность, кусаясь, пыжась, касаясь, мучая разбег и – запаздывая.
[Парщиков 2008: 25]
Сверхдлинная рифмованная натянутая строка радикально авангардна. Женские и даже дактилические («старицы» – «читается», «стриженых» – бежевых», «эспандерах» – «запаздывая») и гипердактилические («имеющая», «очереди») клаузулы здесь удивительно упруги и чеканны, как мужские. Лексические повторы мотивов каннабиса, пронизывая текст, и хронотопические лакуны, свойственные сознанию человека в употреблении, приводят к изображению пограничного состояния. Внешнее (к примеру, пот: «к их бисерным лбам пантеоны прилепятся, будто пёрышки») изображается как внутреннее. Высокую ноту напряжения снижает юмор: рукоятка бритвы напоминает «бананину» и др. Большой объем произведения (14 катренов, 56 строк) парадоксальным образом сохраняет компрессию пар-щиковского письма, не создавая избыточности.
Изучая А. Драгомощенко, я пришла к выводу, что его «зрелое преждевременное произведение», уже сложившееся в его раннем творчестве, как метатекст отличается такими признаками, как преобладание верлибра при наличии в корпусе текстов тоники, в основном разноиктной; идеограмматичность письма; принцип «опустошения слова словом», подкреплённый неявной связью явлений и предметов; чередование поэтического и прозаического; манифестарность, поэтологические, металирические признаки; близость лирического стихотворения к эссе; диффузный комплекс буддистских и индуистских мотивов; барочность поэтического мышления; рилькеанские установки (поэт как слух, а не голос; тяготение к пустотности как пространству блаженства, пассивная отдача вещи миру и др.); концептуально усложненный синтаксис (паратаксис, инверсия, сочетание бессоюзия и инвер- сии, обилие синтаксической ткани); неординарная метафорика; намеренное отсутствие «изящных форм»; доминирующее изображение абстрактного ландшафта.
Продемонстрируем эти особенности поэтики на примере анализа стихотворения А. Драгомо-щенко «Но не элегия». У Драгомощенко целый ряд произведений с пометой «Элегия» в названии («Кухонная элегия», «Сентиментальная элегия», «Элегия вторая по счёту», «Элегия сну на 5-е февраля» и др.). Однако поэт не стремится воссоздать зримые контуры жанра элегии, работая только на уровне жанрового ореола: элегический модус растекается здесь медитативной тональностью грусти по элегическим мотивам, ведущим к пессимистическому финалу. Тщательное воспроизведение элегических признаков противоречило бы не только общей тенденции жанровых контуров в лирике XX–XXI вв., но и намеренному отсутствию изящных форм у Дра-гомощенко. Название «Но не элегия» содержит в себе импульс, приглашающий к диалогу с читателем: произведение можно было бы расценить как элегию, но это не так. Стихотворение имеет посвящение «Зине» (супруга Аркадия – Зинаида Драгомощенко), что указывает на его возможный, сокровенный, любовный посыл. Абстрактный пейзаж («параллельный снег», «звериный дым») и неординарная метафорика («мозг, словно в лабиринте мышь», «останавливать энтропию, как кровотечение останавливает разжёванная крапива, как бесноватых пение»), коррелируя, усиливают, утяжеляют элегическую тональность. Драгомощенко создает виртуозный симбиоз художественного пространства и времени: «дым ютится по неолитовым норам ночи».
Отождествляя себя с адресантом, лирический субъект приглашает его в непростую рефлексию («ты только дичь, ступающая с оглядкой по ворсу хруста»). Свойственный Драгомощенко принцип опустошения слова словом будто отменяет только что названный образ: «Ты только дичь, ступающая с оглядкой по ворсу хруста. Пойману быть». Кольцевая композиция также служит принципу опустошения слова словом: заданный в начале стихотворения мотив «мозга, словно в лабиринте мыши» отменяется в конце («издохшую мышь вытряхиваешь из лабиринта»). Поэт внутри лирического текста прибегает к эссеисти-ческому, даже научному дискурсу: «Два деления или три тому / по шкале С˚ ещё прощались (расторгая связи) части, / к полноте стремясь, к распаду, как к встрече».
Написанное сверхдлинной строкой верлибром, стихотворение отличается обилием синтаксической ткани (придаточные предложения, цепочки однородных членов, сравнительные кон- струкции, причастные и деепричастные обороты). Отдельные синтаксические связи инверси-рованы («наследуя царство по первородства праву»), бессоюзие как прием обнимает большую часть стихотворения, особенно идеограмматиче-ский ее стержень (от слов «Откуда же ствол тепла?» до «куст красноватой полыни»). Центр этой идеограммы – «ствол тепла» – притягивает к себе, оставаясь недостижимым, близкие мотивы («солнце», «звезда», «оружие», «огня безмятежного светозарный столп», «куст красноватой полыни»).
Поэты сближаются по типологическим схождениям (термин В. Жирмунского), контактным связям и генетическому родству. Между ними была личная симпатия, переписка и общение. Среди источников творчества есть и общие, к примеру, интерес к «американской языковой школе» – сильный к Драгомощенко, умеренный у Парщикова.
Поэтику Парщикова и Драгомощенко явственно отличают:
– стиховая форма (преобладание верлибра (при наличии тоники и редкой силлабо-тоники) у Драгомощенко и (авангардной) силлабо-тоники (при наличии тоники и редкого верлибра) у Парщикова с чеканной напряженной строкой, однако при общем стремлении к сверхдлинному стиху у обоих авторов);
– телесность поэзии Парщикова, стремление его визуализации к тактильности (изображение визуальных образов от глаза к руке);
– кинематографичность парщиковского письма;
– юмор Парщикова как средство снижения пафоса;
– принцип «опустошения слова словом», пассивная отдача вещи миру у Драгомощенко;
– абстрактный пейзаж Драгомощенко;
– близость лирического стихотворения Дра-гомощенко к эссе;
– драгомощенковское чередование поэтического и прозаического;
– барочность поэтического мышления Драго-мощенко;
– диффузный комплекс буддистских и индуистских мотивов у Драгомощенко.
Сила, определяющая соотношение предметов и явлений и направляющая их в метафизический континуум, близкий к непостижимому отсутствию, также во многом обусловлена телесностью парщиковского письма.
Общность их поэтик создают:
– константность метафоры (рождающей аура-тичность художественного слова и создающей множащиеся образы – сферу в сфере по принципу матрешки);
– доминантность следующих черт:
-
• манифестарность, металиричность произведения; поэт как слух;
-
• идеограмматичность письма;
-
• неявная связь явлений и предметов;
-
• весомая величина стихотворения при исчерпанности и одновременно максимальной открытости лирического сюжета (объем стихотворения оба поэта постепенно наращивают от раннего творчества к зрелому – на зрелом этапе данный признак становится доминантным);
-
• обилие синтаксической ткани (также признак, постепенно выращенный Драгомощенко и свойственный сначала только поэме Парщикова, а потом и его «большому стихотворению»);
-
• концептуально усложнённый синтаксис (лексические и синтаксические повторы, работающие как угасание эха, и инверсия у Парщикова; паратаксис, инверсия, сочетание бессоюзия и инверсии у Драгомощенко);
-
• тяготение к пустотности как пространству блаженства (причем хронотопические лакуны имеют различную природу – у Парщикова наличествуют промежуточные образы (минус-корабль), ведущие к пустотному пространству, у Драгомощенко показано постепенное «облетание» времени/пространства до пустоты);
-
• изображение внешнего как внутреннего.
Список литературы Метареализм Алексея Парщикова и Аркадия Драгомощенко: сходство и отличие
- Аминева В. Р. Теоретические основы сравнительного и сопоставительного литературоведения: учеб. пособие. Казань: КФУ, 2014. 106 с.
- Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 317-318.
- Голынко-Вольфсон Д. От пустоты реальности к полноте метафоры. Новое литературное обозрение. 2003. № 4. С. 35-41.
- Драгомощенко А. Т. Верхние слои атмосферы // Новое литературное обозрение. 2009. № 4. С.135-139.
- Драгомощенко А. Т. Алёша тихо улыбнулся // Топос. Литературно-философский журнал. 24.05. 2012. URL: https://www.topos.ru/article/biblio-techka-egoista/alesha-tikho-ulybnulsya (дата обращения: 21.01.2022).
- Заломкина Г. В. Семантика вина в поэзии Аркадия Драгомощенко // Homo legens. 2014. № 4. C.72-76.
- Зейферт Е. И. Сила как теоретико-литературная категория (на материале поэзии Алексея Парщикова) // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2020. № 9. C. 102-116. doi 10.28995/2686-7249-2020-9102-115
- Зейферт Е. И. «Зрелое преждевременное произведение» Аркадия Драгомощенко // Новое литературное обозрение. 2021. № 4(170). С. 197-215.
- Кедров К. А. Метаметафора Алексея Парщикова // Литературная учёба. 1984. № 1. С. 90-91.
- Кедров К. А. Поэтический космос. М.: Сов. писатель, 1989. 480 с.
- Князева Е. А. Метареализм как направление: Эстетические принципы и поэтика: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Пермь, 2000. 210 с.
- Корчагин К. М. «Телесность и есть горизонт ожидания.»: Аркадий Драгомощенко как читатель Мориса Мерло-Понти // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2020. Т. 22, № 2(198). С. 242-257.
- Корчагин К. М. Что такое метареализм? // Arzamas. URL: https://arzamas.academy/mag/698-metameta (дата обращения: 12.09.2021).
- Курчатова Н. Сумма отрицаний Аркадия Драгомощенко // OpenSpace.ru. 13.01.2009. URL: http://os.colta.ru/literature/proj ects/74/details/7339 (дата обращения: 29.01.2022).
- Парщиков А. М. Ситуации // Парщиков А. М. Рай медленного огня. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 32-33.
- Парщиков А. М. Землетрясение в бухте Цэ. М.: Икар, 2008. 124 с.
- Парщиков А. М. Дирижабли. М.: Время, 2014. 224 с.
- Северская О. И. Язык поэтической школы: идиолект, идиостиль, социолект. М.: Словари.ру, 2007. 126 с.
- Токарев А. А. Поэтика русского метареализма: дис. ... канд. филол. наук. М., 2017. 150 с.
- Устинова Т. В. Языковая игра в метатекстах «языковых поэтов» Б. Эндрюса и А. Драгомощенко // Уральский филологический вестник. 2013. № 3. С. 99-111.
- Фанайлова Е. Н. Кёльнское время. Папки из архива поэта Алексея Парщикова // Радио «Свобода». 13.02.2022. URL: https://www.svoboda.org/ a/30422842.html (дата обращения: 28.12.22).
- Чижов Н. С. Поэзия Ивана Жданова: проблемы поэтики: дис. ... канд. филол. наук. Тюмень, 2016. 262 с.
- Эпштейн М. Н. Поколение, нашедшее себя. О молодой поэзии 80-х годов // Вопросы литературы. 1986. № 5. C. 64-72.
- ЭпштейнМ. Н. ...Я бы назвал это - «метабола». Заметки о новых течениях в поэзии // Взгляд: Критика. Полемика. Публикации. М.: Советский писатель, 1988. С. 171-196.
- Эпштейн М. Н. Постмодерн в русской литературе: учеб. пособие для вузов. М.: Высш. шк., 2005. 496 с.
- Эпштейн М. Н. 1980-е. К истории новой поэтической волны и ее критического осмысления // Комментарии. 2017. № 31. С. 112-114.
- Эпштейн М. Н. Манифест метареализма. URL: https://www.emory.edu/INTELNET/pm_metarealizm. html (дата обращения: 04.01.2021)
- Lakoff G., Turner M. More than Cool Reason. A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago and London: University of Chicago Press, 1989. P. 49-56.
- Sandler S. Mirrors and Metarealists: The Poetry of Ol'ga Sedakova and Ivan Zhdanov // Slavonica. 2006. Vol. 12, no. 1. P. 3-25.