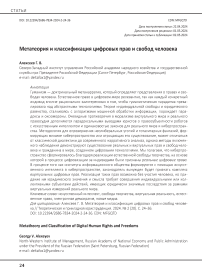Метатеория и классификация цифровых прав и свобод человека
Автор: Алексеев Г.В.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 (20), 2024 года.
Бесплатный доступ
Гуманизм - доктринальный метанарратив, который определяет представления о правах и свободах человека. Естественное право в цифровом мире релевантно, так как каждый конкретный индивид вполне рационально заинтересован в том, чтобы гуманистическая парадигма превалировала над абстрактными технологиями. Теория индивидуальной свободы и юридического равенства, сталкиваясь с алгоритмами машинной обработки информации, порождает парадоксы и оксюмороны. Очевидные противоречия в морализме виртуального мира и реального правосудия дополняются парадоксальными выводами юристов о правосубъектности роботов с искусственным интеллектом и одинаковостью законов для реального мира и киберпространства. Методология для опровержения неолиберальных утопий и тоталитарных фантазий, формирующих мнимое киберпространство или отрицающих его существование, может отличаться от классической диалектики до современного нарративного анализа, однако методы включенного наблюдения демонстрируют существование реальных и виртуальных прав и свобод человека и гражданина в мире, созданном цифровыми технологиями. Мы полагаем, что киберпространство сформировалось благодаря реализации естественной свободы творчества, на основе которой в процессе цифровизации за индивидами были признаны реальные цифровые права. В процессе того как институты информационного общества формируются с помощью искусственного интеллекта в киберпространстве, законодатель вынужден будет признать комплекс виртуальных цифровых прав. Реализация таких прав возможна без участия человека, но придание им юридического значения и смысла требует совершения индивидуальными или коллективными субъектами действий, имеющих юридически значимые последствия за рамками виртуальных измерений реального мира.
Искусственный интеллект, свобода творчества, виртуальная реальность, естественное право, электронная демократия, новые медиа
Короткий адрес: https://sciup.org/14130605
IDR: 14130605 | DOI: 10.22394/2686-7834-2024-2-24-36
Текст научной статьи Метатеория и классификация цифровых прав и свобод человека
Метатеория свободы Исайи Берлина (Isaiah Berlin) учит нас тому, что позитивные и негативные аспекты личной свободы значительно различаются1. Совершенно очевидно, что юридически защищенное нежелание индивида участвовать в конкретной системе социального взаимодействия (негативная свобода) резко контрастирует с созданием условий для самореализации способностей индивида в определенной области (позитивная свобода). Цифровая трансформация стала вызовом для негативной свободы от роботов и открыла широкие горизонты виртуальной реальности для реализации личной свободы в позитивном смысле.
Авторитетный социолог Джордж Ритцер (George Ritzer) обратил внимание на то, что расчеты, роботизация производства и автоматизация управления приводят к просьюмеризации потребления2. Использование алгоритмов не только ограничивает свободу выбора, но и создает для граждан новые обязанности. Способность права как особой социальной коммуникативной системы3 регулировать общественные отношения в киберпространстве зависит от методов кодирования информации. Компьютерный код и уголовный кодекс по-разному выполняют свою регулирующую функцию, но в англоязычном киберпространстве обозначаются одним термином code, хотя и в различном фразеологическом сочетании.
В то время как нормативные акты (legal code) регулируют общественные отношения, вводя ответственность (наказание) за нарушение правовой нормы, компьютерные программы (source code) ставят человека перед фактом существования цифровой нормы, которую, в отличие от юридических кодексов, можно безнаказанно нарушить, если обладать специальными знаниями об архитектуре киберпространства. Метатеория цифровых прав и свобод анализирует методы и свойства теории естественных прав и свобод применительно к виртуальной реальности, созданной при помощи цифровых технологий. В процессе метатеоретического анализа комплекс естественных и цифровых прав и свобод человека и гражданина представляется как функциональная система обеспечения социальной справедливости и безопасности в киберпространстве.
Цифровые свободы и искусственный интеллект
В правовой культуре эпохи постмодерна становится нормой привлечение к уголовной ответственности граждан за действия, которые они совершают в социальных сетях. С одной стороны, очевидна общественная опасность «групп смерти»1 в виртуальном мире, и эффективная запретительная политика в их отношении необходима однозначно. С другой стороны, весьма опасны и призывы к «криминализации организации треш-стримов»2, которые «не смешные и дурашливые»3. Новая юридическая логика, которая воспринимает гибель киногероя на экране как пропаганду убийства реальных людей и потому запрещает показ сцен убийства уголовным правом, не только ограничивает свободу творчества (ст. 44 Конституции Российской Федерации 1993 г.), но и является оксюмороном.
В то время как причины запретов на пропаганду насилия и хулиганства понятны и рациональны, неопределенность сохраняется в отношении формальных пределов сатиры и юмора. Очевидно, что представления о смешном у органов судебной власти и организаторов треш-стримов могут быть разными. Треш-стримы — это в основном спектакли в стиле гранж, их невозможно запретить даже в средствах массовой информации4; в киберпространстве этот стиль процветает. Спектакли следует отличать от он-лайн-трансляций преступлений, обязанность такого различения лежит на правоохранительных органах, за совершение преступлений уголовное наказание организаторов и исполнителей должно быть неотвратимым, однако вопрос об ответственности зрителей во многом остается открытым.
Представляется, что значительная часть граждан оказалась на весьма провокационном спектакле помимо своей воли и безуспешно ищет выход из того виртуального и интерактивного кинозала, которым киберпространство и является. Тезис авторитетных ученых о том, что «практически все действия, совершаемые стримерами в интернет-пространстве, уже имеют самостоятельную уголовно-правовую оценку»5, — это парадокс доктрины уголовного права, которая немного запуталась в попытке выявить экстремизм6 в «обществе спектакля»7.
В постиндустриальном обществе (негативная) свобода от цифровых технологий невозможна в силу того, что это технологии общего назначения (GPT — general-purpose technologies), которые имеют сквозной характер для всего народного хозяйства и начинают там конкурировать с индивидом за авторитет и рабочие места. Граждане, не использующие компьютеры, по мере цифровизации всё равно оказываются под воздействием цифровых технологий, так как в их отношении реализуются стратегии менеджмента и маркетинга, выстроенные в стиле гранж с использованием искусственного интеллекта (artificial intelligence — AI). Естественная обязанность граждан следовать правилам, которые разработаны с использованием умных машин, не могла не породить каких-то фундаментально новых прав, которые будут эту обязанность уравновешивать и не позволят бесконтрольно подчинять волю индивида автоматическим решениям.
Правовая неопределенность вокруг AI обусловлена множеством факторов, среди которых основным является принципиальное непонимание и неприятие феномена права со стороны самого AI. Российские правоведы системно исследуют возможности слабого AI, который решает задачи, но ничего не понимает сам. Например, Е. Н. Абрамова в статье «Искусственный интеллект как субъект авторского права» обоснованно приходит к выводу, прямо обратному тому, что обозначено в заголовке статьи: «Признать искусственный интеллект не автором созданных с его помощью произведений, а техническим средством»1; на этом фоне вывод профессора О. А. Ястребова о том, что, «следуя “чистому учению о праве” Г. Кельзена [Hans Kelsen], электронное лицо можно трактовать как персонифицированное единство норм права, которые обязывают и уполномочивают искусственный интеллект (электронный индивид), обладающий критериями “разумности”», выглядит футуристической утопией2, которая, впрочем, исходит из принципа разумности.
Реалистическая позиция Организации Объединенных Наций (ООН) состоит в том, что «права человека применяются онлайн так же, как и офлайн. Цифровые технологии предоставляют новые средства для осуществления прав [курсив мой. — Г. А. ] человека, но они [так же] слишком часто используются и для их нарушения. Особую озабоченность вызывают вопросы защиты данных и конфиденциальности, цифровой идентификации, использования технологий наблюдения, онлайн-насилия и притеснений»3.
Верное представление об опасности цифровых технологий для гуманистических ценностей по логике ООН исходит из весьма сомнительного тезиса о том, что в киберпространстве (онлайн) действуют те же юридические нормы, что и в реальном мире (офлайн). Законы физики в реальном мире значительно разнятся с реалиями киберпространства, и при столь очевидных различиях повседневные заверения политиков о том, что законы киберпространства идентичны нормам национального законодательства для средств массовой информации (СМИ), заставляют обратиться к феномену цифровой свободы — возможности изменения действительности при помощи цифровых технологий. Цифровая свобода может пониматься как «форма свободы, которая позволяет практиковать личную автономию и независимость в цифровом мире»4, как противоположность понятию «контроль» в ме-татеоретическом смысле5, как средство достижения цифровой целостности (digital integrity)6 и как гарантия процветания цифровых империй и международного сотрудничества в сфере информационных технологий7.
В своей работе «Общество общества» Никлас Луман (Niklas Luhmann) справедливо полагал, что «коммуникация не нуждается для своего продолжения в каких-либо гарантиях соответствия окружающему миру. Вместо этого она использует познание»8. Стремление регулировать познание императивно в условиях внедрения квантовых вычислений может резко контрастировать со свойствами квантовых вычислений, их способностью проникать через барьеры паролей и сетевых экранов (брандмауэров). Запретительный метод правового регулирования в киберпространстве неизбежно влечет за собой дискриминацию тех, кто соблюдает запреты, так как не только лишает индивидов возможности использовать общеизвестные знания, но и стремится ограничить процесс познания методологически, не затрагивая при этом возможности машин. Этика естественных законов виртуального мира определяется восприятием результатов внедрения цифровых технологий, которые расцениваются как благо теми, чью работу они делают легче, или как насилие в отношении тех, чье положение в обществе становится хуже в результате цифровой трансформации.
Метатеория цифровых прав и виртуальные права
Необходимость защиты прав человека в киберпространстве не вызывает сомнений1, вместе с тем содержание цифровых прав и их соотношение с информационной безопасностью порождает широкую общественную дискуссию2.
Различия между реальным миром с физическими телами и материальными объектами и миром виртуальных аватаров, сетевых коммуникаций и компьютерных моделей, в том числе и трехмерных, и больших языковых (large language model — LLM), должны приводить к созданию справедливых норм для виртуального мира, а не трансляции туда ригидных охранительных норм и нарративов из реальной действительности, где угрозы и опасности способны непосредственно влиять на жизнь и здоровье людей. Интеграция киберпространства в социально-политические общественные отношения опосредована аппаратными средствами обработки информации и когнитивными субкультурами социальных сетей. Регулирование цифровой коммуникации без учета этой специфики приводит к противоречиям между нормами законодательства и действительными правилами в киберпространстве.
Проблема правосубъектности искусственного интеллекта состоит в том, что AI не озадачен собственным выживанием. Современный компьютерный код вообще игнорирует смыслы, и это позволяет ему связывать в единую смысловую цепочку разнородные тезисы уже на уровне баз данных. Всякий моральный, прагматичный, рациональный или религиозный культурный код позволяет в процессе правового регулирования и применения разграничивать по методам публичного воздействия реальные общественно опасные практики (например, наркотизацию населения как критическую угрозу здоровью граждан), виртуальные развлечения (например, компьютерные игры как продукт цифровой трансформации искусства), политические процессы (например, журналистику как традиционное литературное творчество и необходимое средство реализации гражданами традиционных для делиберативной демократии политических свобод).
Смешение медицины, развлечений, политики и вообще всего другого в виртуальном дискурсе приводит к появлению новых норм, благодаря которым права и обязанности появляются не только у тех, кто способен их осознать, но и вообще сами по себе без субъекта (виртуальные права). Поскольку машинизация права ведет к дегуманизации, постольку и гуманизация электронной демократии, равно как и ее легитимность3, невозможна без признания приоритета интересов граждан при внедрении цифровых технологий (в том числе и в журналистику)4. По своей правовой природе журналистика в киберпространстве есть метажурналистика5, которую и транслируют «новые медиа» через «умные вещи»6.
Анализ правовых последствий цифровой трансформации журналистики показывает, что носителем естественных прав и обязанностей остается живой и компетентный журналист, без его личного опыта контент неинтересен читателю и любые материалы утрачивают политический смысл и художественное значение. Экспериментально этот вывод легко проверить, заменив комментатора спортивной трансляции на AI; удержание зрителей в этом примере будет зависеть от того, насколько харизматично AI будет имитировать эмоции; авторских прав не возникнет, так как не будет автора, но смежные права появятся сами по себе. Вместе с тем если авторские права предполагают оригинальность творческого самовыражения автора, то виртуальные цифровые права существуют за рамками эмоционального поля.
Когнитивные субкультуры, основанные на эмоциях, сталкиваются с пристальным вниманием в научной литературе, порождая логические парадоксы. В цифровых базах данных научных статей подозрения в олигофреничности заядлых геймеров и умышленной милитаризации медиадискурса причудливым образом дополняются исследованиями наркотизированного бреда и паранойи1. В итоге даже научное поле киберпространства на уровне контента заполняется семантически насыщенными образами, где термин « быть на умняке — пребывать в философском расположении ума под воздействием наркотических средств»2 воспринимается в системе с тезисами о том, что «культурная коннотация фразеологизма позволяет передать в новостной публикации эмоционально-оценочное отношение…»3, а «неадекватная реакция на сюжет привод[ит] к всплеску негативных эмоций при неудаче, проигрыше»4.
Зависимость индивида от: 1) наркотиков, 2) навязанного медиадискурса; 3) правил виртуальной игры в разной степени угрожает статусу его личности. Все три угрозы свободе личности определенно способны сужать для нее возможность выбора, ограничивают широту мышления индивида и могут создавать угрозы общественной безопасности, однако способность к самозащите собственного социального, физического и психического здоровья остается даже в рамках доктрины юридического позитивизма гарантией того самого выживания, о котором писал Герберт Харт (Herbert Lionel Adolphus Hart)5. Цифровая свобода, как и естественное право, исходит из того, что каждый обязан сам бороться за свое существование в киберпространстве, как и за выживание в реальном мире. Общество способно лишь в некоторой мере обеспечивать справедливость этой борьбы. Абсурдно ожидать от государства запрета на смысловую игру вокруг цифровых технологий для сохранения нецифрового бытия (негативной свободы индивида от цифровых технологий), так как технический прогресс в области цифровых технологий — важнейшая составляющая национальной безопасности.
Цифровые права граждан таким же образом отличаются от классических прав человека, изложенных еще в Билле о правах 1689 г., как компьютерные игры отличаются от наркомании и журналистики: вне цифровой платформы игры не существуют. Виртуальная реальность цифровых платформ за их пределами распадается на разрозненные образы и мемы. Осмысленно говорить о внутриигровой коммуникации можно только с тем, кто в ней участвовал, однако права в виртуальном мире от этих разговоров не возникают, виртуальная деонтология требует обязательного использования технической (программной и аппаратной) платформы.
Использование конкретных платформ определяется личной заинтересованностью граждан. В киберпространстве статус личности имеет значение ввиду рационального эгоизма, необходимого для позиционирования индивида в обществе. Эгоизм в постиндустриальной культуре по Ричарду Докинзу (Clinton Richard Dawkins) распространяется в том числе через мемы — единицы культурной информации (аналогичные гену в генетике), копирующиеся и передающиеся от одного носителя к другому. Мемы подвержены мутации, естественному отбору и искусственной селекции6.
Правовой морализм, одним из видных апологетов которого является американский профессор Майкл Мур (Michael S. Moore)7, позволяет законодателю и суду отличать законные действия от преступлений. Эта деонтическая логика естественного права (или борьбы за свободу и выживание, если мы позитивисты) в полной мере практикуется при написании кода для киберпространства, где, впрочем, еще и не сложилась государственная монополия на легитимное насилие.
При условии отсутствия реальных общественно опасных последствий императивное правовое регулирование как правоотношений внутри цифровых платформ, так и распространения мемов, которые они порождают, — малополезное занятие. Автор полагает, что цифровые платформы регулируются диспозитивно по логике естественного права, где мораль хоть и носит секулярный характер, однако подчиняет законодателя ряду технических закономерностей кодирования и передачи информации, через которые киберпространство создает свою этику. Меметическая составляющая киберпространства имеет виртуальную природу и существует как машиночитаемая проекция личного опыта многих индивидов. Если виртуальная реальность — «это пространственная технология, которая позиционирует пользователей “внутри” виртуального мира и использует ощущение положения и движения тела пользователей для улучшения памяти [курсив мой. — Г. А. ] и ощущения присутствия»1, то, как и в любом пространстве социальной коммуникации, там образуется специфичная система прав и обязанностей.
Машинная память формирует виртуальные цифровые права, которые не принадлежат конкретному субъекту, но могут быть использованы или даже присвоены при наличии такой потребности. Гипотетическая (виртуальная) реальность, которая «может появиться при определенных условиях» вне информационной среды, сгенерированной «внутри пространства, созданного компьютером», сохраняется и передается как мем. В процессах эволюции мемов принимает участие AI, и по мере возрастания роли умных машин в обработке меметических данных содержание виртуальных цифровых прав, основанных на запрограммированном и понятном интересе, будет всё больше отличаться от норм естественного права, нередко основанных на эмоциях и потому непонятных AI.
Классификация цифровых прав
Включенное наблюдение за работой цифровых платформ и нарративный анализ правовых исследований позволяют констатировать, что внутри системы цифровых прав человека и гражданина различаются две группы: 1) реальные права; 2) виртуальные права.
Реальные цифровые права необходимы для беспрепятственного доступа к благам киберпространства, они обеспечиваются цифровыми технологиями и реализуются в рамках классических правовых отношений, целью которых является создание и использование киберпространства, а также управление им. К числу реальных цифровых прав относятся:
-
1) право на разработку и развитие аппаратных решений и цифровой (умной) техники;
-
2) право на разработку программного обеспечения для уже существующей цифровой техники;
-
3) право на доступ к терминалам Глобальной сети связи общего пользования для размещения там материалов и сообщений;
-
4) право на использование программных и физических средств обработки и хранения информации;
-
5) право на использование устройств человеко-машинного интерфейса;
-
6) право пользователя на присвоение и реализацию результатов машинной обработки информации; 7) право на выбор юрисдикции в киберпространстве.
Виртуальные цифровые права позволяют обрабатывать большие данные, вносить изменения в виртуальную реальность, систематизировать и осмыслять результаты машинной обработки информации; они реализуются внутри киберпространства без индивидуализации субъекта. В широком спектре виртуальных цифровых прав выделяются и могут быть формализованы уже на существующем уровне развития киберпространства следующие:
-
1) право доступа к материалам и ресурсам Глобальной сети;
-
2) право на конфиденциальность пользователя Глобальной сети;
-
3) право на работу в Сети под псевдонимом;
-
4) право на защиту персональных данных и цифровых активов криптографическими средствами;
-
5) право на присвоение, использование и отчуждение цифровых активов (на виртуальную собственность);
-
6) право на создание, управление и удаление (забвение) объектов интеллектуальной собственности, персональных страниц и сайтов;
-
7) право на автономную виртуальную личность.
К вопросу о типологии цифровых прав
Различение действий человека и робота в киберпространстве с развитием цифровых технологий становится всё более сложной задачей. Компьютерные алгоритмы, использующие AI, преуспели в совершении юридических действий, они заключают сделки на биржах, действуя от лица брокеров, находящихся в офшорах. Право на выбор юрисдикции в киберпространстве (реальное коллизионное право) и право на конфиденциальность пользователя Глобальной сети (виртуальное право, требующее доступа к Сети в определенном техническом режиме) порождают необходимость в киберпространстве того, что профессор Н. В. Разуваев обозначает как «деперсонификация субъектов правовых взаимодействий»1.
Парадокс, порождаемый деперсонификацией абонентов в Сети, состоит в том, что в виртуальном мире (субъективные по своей природе) права могут существовать в отрыве от своего владельца до тех пор, пока они не будут присвоены интересантом. Режим реализации виртуальных цифровых прав в этом смысле больше напоминает сбор дикорастущих плодов (п. 1 ст. 11 Лесного кодекса Российской Федерации 1996 г.), чем присвоение бесхозяйных вещей (ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации — далее ГК РФ), так как поиск контента в компьютерных сетях имеет принципиальное значение, а приобретательная давность редко используется как основание возникновения субъективных прав в киберпространстве.
Соотношение интеллектуальных прав и реальных цифровых прав представляет собой сложную правовую проблему. С одной стороны, при реализации свободы творчества охраняются интеллектуальные права (п. 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации 1993 г.), с другой — реальные цифровые права позволяют осуществлять доступ к киберпространству, который интеллектуальные права могут ограни-чивать2. На практике интеллектуальные права оказываются не способны запретить доступ ни к Сети, ни к контенту из-за анонимности пользователей и по ряду других причин, например, экономической нерациональности контроля за доступом к контенту. В результате виртуальные цифровые права позволяют создавать любой производный (в смысле права интеллектуальной собственности) контент и использовать его. При этом защита контента осуществляется с использованием криптографических технологий, а распространяется контент по логике децентрализованных сетевых технологий. В то же время при реализации цифровых прав интеллектуальная собственность возникает как результат естественной (конституционной) свободы творчества, а не «компьютерной креативности»3.
Дискуссионный характер носит соотношение конституционных прав и свобод человека в киберпространстве и так называемых цифровых прав в смысле российского гражданского законодательства (ст. 141.1 ГК РФ). По авторитетному мнению профессора Е. А. Суханова, в гражданском праве имеет место «условность терминов “цифровое имущество”… и “цифровые права”, которые в действительности представляют собой не новый вид объектов гражданского… оборота… а аналогичный “бездокументарным ценным бумагам” технический способ фиксации определенных законом имущественных прав… осуществление которых возможно лишь с помощью специальных компьютерных технологий в пределах известных информационных систем»1. В рамках публичного права, напротив, возникла и развивается дискуссия не только о типологии «цифровых прав человека»2, но и об обязанностях «оператора информационной системы робота»3, несмотря на то, что сами роботы являются вызовом не только религиозной, но и гуманистической аксиологии и, очевидно, переживут своих создателей.
Профессор М. А. Рожкова обоснованно полагает, что «отход от изначальной цели введения в гражданское право понятия “цифровое право” и последовавшее за ним выхолащивание определения этих прав, содержательная несостоятельность нового понятия и далекий от совершенства нормативный материал в совокупности дают основания для вывода о том, что попытка введения в российскую цивилистику новой категории не удалась»4. Это, впрочем, только подчеркивает актуальность совершенствования правового регулирования сделок с цифровыми активами.
По существу верное утверждение профессора Э. В. Талапиной относительно того, что «во всем мире “цифровые права” (digital rights) понимаются как специфические права человека в сфере публичного права»5, не снимает частноправовых вопросов о природе гражданских прав на цифровые активы, которые приобретаются в результате реализации права пользователя на присвоение и реализацию результатов машинной обработки информации (права на развитие результатов работы AI)6.
Представляется, что многие виртуальные цифровые права носят комплексный характер и в предметном поле цивилистики схожи с бездокументарными ценными бумагами на предъявителя, которые остаются бесхозяйными, но сохраняются в памяти и алгоритмах AI. В поле публичного права виртуальные цифровые права формируются как ценность информационного общества, мораль которого не позволяет их безосновательно формализовать или запретить, а значит, они тесно связаны с естественным правом и подлежат справедливому правовому регулированию.
Заключение
Классификация цифровых прав отражает систему управления киберпространством: на уровне технической инфраструктуры реализуются реальные права, в то время как на уровне контента формируются виртуальные права. В этом смысле доступ к базовому программному обеспечению — реальное цифровое право. Без реализации таких прав отсутствует возможность доступа к компьютерной сети. В то же время доступ к контенту сети — право виртуальное. Такие права могут существовать только при условии реализации необходимого ряда реальных цифровых прав и запроса на доступ со стороны человека или AI, однако именно человек, следуя гуманистической парадигме, является основным потенциальным носителем (как реальных, так и виртуальных) цифровых прав и свобод.
Подразделение цифровых прав и свобод на реальные и виртуальные только отчасти решает проблему регулирования общественных отношений с использованием AI, который способен реализовывать виртуальные цифровые права автономно от воли носителей таких прав и вообще без них. Виртуальные права, которые реализует AI или аноним, приобретают юридическое значение в зависимости от характера реагирования граждан, корпораций и государства на результаты машинной обработки информации.
Проблема состоит в том, что мы не можем знать результаты работы AI заранее, а значит, законодательная политика (в том числе и запретительная ее составляющая) является результатом прогнозирования. Прогнозировать признание правосубъектности AI означает появление человека цифрового (homo digitalis, или digital human). Та правовая реальность, которую М. С. Мур обозначил как «человек-машина» (human machine), способна делать выбор и принимать решения, но если она станет носителем прав и обязанностей, то это ознаменует кризис гуманизма. Прогнозировать такой сценарий развития событий можно, но гуманистическая парадигма диктует нерациональность появления роботов со статусом и самосознанием, а значит, цифровые права будут всё шире использоваться разумным человеком в своих интересах.
Список литературы Метатеория и классификация цифровых прав и свобод человека
- Абрамова Е. Н. Искусственный интеллект как субъект авторского права / Е. Н. Абрамова, Е. В. Старикова // Hypothesis. 2020. № 1 (10). С. 32-38. EDN: DCAZUG
- Архипов В. В. Информационно-правовые аспекты формирования законодательства о робототехнике / В. В. Архипов, В. Б. Наумов // Информационное право. 2017. № 1. С. 19-27. EDN: YKKMGH
- Вакурова Н. В. Метажурналистика как инструмент информационной войны. К вопросу виртуализации политического противоборства в глобализованном мире / Н. В. Вакурова, Л. И. Московкин // Архивариус. 2017. № 1 (16). С. 59-70. EDN: YROWYD
- Глобальный индекс экстремизма / Г. В. Алексеев, Н. А. Аргылов, А. В. Байчик [и др.]. СПб.: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 2023. 416 с. EDN: JTDRWY
- Грачева Ю. В. Треш-стрим: социальная обусловленность криминализации / Ю. В. Грачева, С. В. Маликов // Актуальные проблемы российского права. 2021. Т. 16, № 6 (127). С. 202-210. https://doi.org/10.17803/19941471.2021.127.6.202-210. EDN: TTXSQM
- Кириленко В. П. Легитимность демократии в работах Макса Вебера и Карла Шмитта / В. П. Кириленко, Г. В. Алексеев // Правоведение. 2018. Т. 62, № 3. С. 501-517. https://doi.org/10.21638/11701/spbu25.2018.305. EDN: YGABRO
- Кириленко В. П. Электронная демократия и гуманистические принципы / В. П. Кириленко, Г. В. Алексеев // Управленческое консультирование. 2019. № 6 (126). С. 19-31. https://doi.org/10.22394/1726-1139-2019-6-19-31. EDN: ASSUKB
- Крылова Н. Е. «Группы смерти» и подростковый суицид: уголовно-правовые аспекты / Н. Е. Крылова // Уголовное право. 2016. № 4. С. 36-48. EDN: XGTAIX
- Лупанова Е. В. Фразеология военного происхождения как оружие информационно-психологической войны / Е. В. Лупанова // Политическая лингвистика. 2021. № 5 (89). С. 122-127. https://doi.org/10.26170/1999-2629_2021_05_14. EDN: GIRCYB
- Компьютерные игры: от борьбы с депривацией к алгоритмической культуре и... цифровому слабоумию / С. В. Меркулов, Т. А. Кононова, О. Л. Поминова [и др.] // Перспективы науки и образования. 2022. № 1 (55). С. 42-60. https://doi.org/10.32744/pse.2022.1.3. EDN: TXBJSF
- Разуваев Н. В. Право цифрового общества: актуальные проблемы и пути развития (окончание) / Н. В. Разуваев // Российский журнал правовых исследований. 2021. Т. 8, № 4. С. 33-48. https://doi.org/10.17816/RJLS78579. EDN: ESITYJ
- Рахманова Е. Н. Треш-стрим - форма сетевой агрессии: уголовно-правовой анализ / Е. Н. Рахманова, А. Н. Берестовой, П. В. Цветков // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2023. № 1 (97). С. 137-143. https://doi.org/10.35750/2071-8284-2023-1-137-143. EDN: DROWCQ
- Резаев А. В. Новые медиа и «умные вещи»: как новые технологии актуализируют различие между общением и коммуникацией? / А. В. Резаев, Н. Д. Трегубова // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. 2019. № 1. С. 25-45. EDN: QCFETD. https://doi.org/10.30547/vestnik.journ.1.2019.2545
- Рожкова М. А. Цифровые права: публично-правовая концепция и понятие в российском гражданском праве / М. А. Рожкова // Хозяйство и право. 2020. № 10 (525). С. 3-12. EDN: PSBNMH
- Руженцева Н. Б. Стиль гранж в контексте печатных СМИ / Н. Б. Руженцева // Политическая лингвистика. 2023. № 6 (102). С. 28-35. EDN: FFOAVW
- Суханов Е. А. О гражданско-правовой природе «цифрового имущества» / Е. А. Суханов // Вестник гражданского права. 2021. Т. 21, № 6. С. 7-29. https://doi.org/10.24031/1992-2043-2021-21-6-7-29. EDN: DPVLYS
- Талапина Э. В. Эволюция прав человека в цифровую эпоху // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2019. Т. 14, № 3. С. 122-146. EDN: DYOFJK. https://doi.org/10.35427/2073-4522-2019-14-3-talapina
- Хасанова Н. Ф. Когнитивно-идеографическая классификация русского и английского жаргонов наркоманов // Современные исследования социальных проблем. 2019. Т. 11, № 1-1. С. 192-203. EDN: LGSBYY https://doi.org/10.12731/2077-1770-2019-1-192-203
- Ястребов О. А. Правосубъектность электронного лица: теоретико-методологические подходы // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2018. Т. 13, № 2. С. 36-55. EDN: XSLRRJ
- Berlin I. (1969) Four essays on liberty. Oxford University Press. 213 p.
- Dawkins C. R. (1976) The Selfish Gene. Oxford University Press. 497 p.
- Debord G. (1992) La societé du spectacle. URL: https://la-philosophie.com/wp-content/uploads/2012/06/La-Societe-du-Spectacle-Debord.pdf
- Dror-Shpoliansky D., Shany Y. It’s the End of the (Offline) World as We Know It: From Human Rights to Digital Human Rights - A Proposed Typology (September 26, 2020). Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper. No. 20-36. URL: https://ssrn.com/abstract=3700267
- Erol A. (2020) Freedom and Control in the Digital Age. Human Affairs.Vol. 30, no. 4, pp. 570-576. https://doi.org/10.1515/humaff-2020-0050
- Hart H. L. A. (1961) The Concept of Law. Clarendon Press. 2nd ed. Pp. 172-196.
- Hurd H. M., Moore M. S. (2021) The Ethical Implications of Proportioning Punishment to Deontological Desert. Criminal Law and Philosophy. Vol. 15, no. 3, pp. 1-20. URL: https://doi.org/10.1007/s11572-021-09569-6
- Ihalainen J. (2018) Computer creativity: artificial intelligence and copyright. Journal of Intellectual Property Law & Practice. Vol. 13, no. 9, рp. 724-728. URL: https://doi.org/10.1093/jiplp/jpy031
- Kazlauskaitė R. (2023) Virtual reality as a technology of memory: Immersive presence in Polish politics of memory. Memory, Mind & Media. Vol. 2. https://doi.org/10.1017/mem.2023.9
- Lee J. (2023) The Human Right to Development: Definitions, Research and Annotated Bibliography. International Journal of Legal Information. Vol. 51, no. 1, рp. 2-34. https://doi.org/10.1017/jli.2023.10
- Liu H.-W., Zhou W. (2024) Digital regulation in the shadow of digital empires: a quest for cooperation? Journal of International Economic Law. Vol. 27, no. 1, pp. 186-191. https://doi.org/10.1093/jiel/jgae002
- Luhmann N. (1997) Die Gesellschaft der Gesellschaft. Suhrkamp Verlag. Bd. 2.
- Mansourian Y. (2020) Digital freedoms. Incite. Vol. 41, no. 7/8, pp. 21-21.
- Moore M. S. (2020) Mechanical Choices: The Responsibility of the Human Machine. Oxford: Oxford University Press. 612 p. https://doi.org/10.1093/oso/9780190863999.001.0001
- Polyakov A. V., Osvetimskaya I. I. (2023) Moral Foundations of Legal Communication. Kutafin Law Review. Vol. 10, no. 3, pp. 475-494. https://doi.org/10.17803/2713-0533.2023.2.25.475-494
- Rochel J. (2021) Connecting the Dots: Digital Integrity as a Human Right. Human Rights Law Review. Vol. 21, no. 2, рp. 358-383. https://doi.org/10.1093/hrlr/ngaa063
- Ritzer G. (2012) The McDonaldization of Society: 20th Anniversary Edition. SAGE. 237 p.
- Samuelson P. (2017) Functionality and Expression in Computer Programs: Refining the Tests for Software Copyright Infringement. Berkeley Technology Law Journal, Forthcoming. URL: https://ssrn.com/abstract=2909152