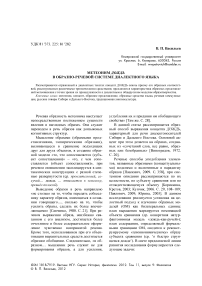Метеоним дождь в образно-речевой системе диалектного языка
Автор: Васильев Василий Петрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Способы языковой репрезентации картины мира
Статья в выпуске: 9 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается отраженный в диалектных текстах концепт ДОЖДЬ сквозь призму его образных соответствий, реализующихся различными тропеическими средствами; предлагается характеристика образных представлений метеоявлениясточки зрения их принадлежностикдиалектным и общерусским моделям образотворчества.
Метеоним, концепт, образное представление, образные средства языка, речевая коммуникация, русские говоры сибири и дальнего востока, традиционная лингвокультура
Короткий адрес: https://sciup.org/14737945
IDR: 14737945 | УДК: 81
Текст научной статьи Метеоним дождь в образно-речевой системе диалектного языка
Речевая образность метеонима выступает непосредственным постижением сущности явления в наглядных образах. Она служит переводом в речь образов как доязыковых когнитивных структур.
Мышление образами (образными представлениями, эмпирическими образами), выливающееся в сравнение подходящих друг для друга объектов, в создание образной модели «то, что сопоставляется (субъект сопоставления)» – «то, с чем сопоставляется (объект сопоставления)», при речевом овнешнении эксплицируется в синтаксических конструкциях с разной степенью развернутости (ср. пронзительный , секучий ... дождь ... втыкается в земельку , прошёл полосой ).
Выведение образов в речь направлено «не столько на то, чтобы передать собеседнику характер образов, имеющихся в сознании говорящего…, сколько на то, чтобы усилить образы, сделать их более впечатляющими» [Савченко, 1980. С. 21]. При речевом выражении образа, неизбежно связанном с его анализом, достигается более отчетливое и более содержательное оформление чувственно воспринятой реалии. Кроме того, использованием при его объективации выразительных средств достигается образное обобщение. Следовательно, «в образном… мышлении речь служит не для формирования образов, а для усиления, углубления их и придания им обобщающего свойства» [Там же. С. 28].
В данной статье рассматривается образный способ выражения концепта ДОЖДЬ , характерный для речи диалектоносителей Сибири и Дальнего Востока. Основной акцент при этом делается на образах, созданных из «сочетаний слов, все равно, образных или безобразных» [Виноградов, 1972. С. 20].
Речевые способы уподобления элементов, названные образными (концептуальными) моделями и включенные в парадигму образов [Павлович, 2009. С. 358], при системном описании рассматриваются по их целостности, по субъекту сравнения или по отождествляющемуся объекту [Борискина, Кретов, 2003; Купчик, 2006. С. 29, 108–109; Павлович, 2009; Юрина, 2005]. В данном исследовании реализуется установка на целостный подход к изучению образных моделей (ОМ) как билатеральных единиц: план выражения маркируется номинацией объекта сравнения (ср. конкретная натур-фактонимная модель «дождь-как-ручей»); план содержания, определяемый формальными границами ОМ, сводится к реконструируемому «плювионимическому» образу субъекта сравнения (ср. ‘о быстро струящемся дожде’). В свете предлагаемой линии развития исследования формулируются следующие задачи:
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 9: Филология © В. П. Васильев, 2012
-
а) выявить предметные сферы, объекты которых отождествляются с метеоявлением в целях раскрытия его обобщенных наглядно-чувственных образов; б) рассмотреть образные представления о дожде, объективированные в речевой коммуникации диа-лектоносителей, в рамках общих, инвариантных образов-моделей; в) установить языковые средства, участвующие в речевой реализации образной информации о метеоявлении; г) охарактеризовать речевые образы метеонима с точки зрения их соответствия диалектным и общерусским моделям образотворчества.
Множество образных представлений о дожде, активизируемых диалектоносителя-ми в речи, определяется широтой его аналогий с разнообразными предметами действительности, номинации которых относятся к разным категориальным сферам, таким как живое существо, растение, вещество, неживая природа, питание, сельское хозяйство, строительство, искусство, техника. Для раскрытия эмпирических образов метеоявления дождь ‘атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель воды’ избираются репрезентирующие его артефактонимные ОМ. Специфика в их построении и систематизации обусловливается характером проявления образов в речи и набором конкретизируемых объектов сравнения.
Речевое воссоздание образа дождя по целостности его бытия
Диалектной вариацией общерусской концептуальной модели «дождь-как-ткань» – ср. лит. холст, марля, полотнище, кисея… дождя [Павлович, 2009. С. 358] – является картинирование его в виде полосатой ткани (ср. ткань в полоску ‘ткань с рисунком в полоску’, полосатый ‘имеющий узор в виде полос, полосок’, н-сиб. полосатина ‘домотканый холст с поперечными цветными полосками’), цветовая выделенность на которой являет собой «самый древний и простой способ создания узора» [Словарь античности, 1989. С. 580]. Ср. Ноне сильный был дожж, туча. Дожжина приурезал полосами (Том. Том. Верш.). Дожжичек по-лосатит там (Том. Кож. Урт.). За счет использования в речевой коммуникации общерусской метафоры полоса ‘то, что имеет вытянутую, продолговатую форму’ и собственно образного диалектного слова полосатить ‘сильно литься (о дожде)’, своей внутренней формой отсылающих к мотивирующей основе полоса ‘длинная и сравнительно узкая часть ткани, выделяющаяся своим цветом’, происходит визуальное освоение струистого ливня как смутной сплошной отдаленной водяной завесы, на которой заметны струи более темной окраски.
Агрономическая интерпретация метео-нимического явления в рамках ОМ « дождь - как - участок возделываемой земли » актуализирует конкретные целостные образы-модели «дождь-как-полоса», «дождь-как-гряда (грядочка)». Ср. Бывает , что дожж на одном краю деревни идёт , а в другом его нет. Так а туча найдёт. На том краю пройдёт гряд о й , такой полосой . А на другой стороне и не захватит (Кем. Юрг. Томил.). А может где пройдёт гр я дочкой , а здесь не будет дожжа (Н-сиб. Чулым. Алекс.). Будучи единицами гиперо-гипонимического блока языка, лексемы полоса ‘узкий участок пахотной земли…’ (< прасл.* polsa ) и гряда ‘узкая полоса вспаханной или вскопанной земли в огороде, цветнике’ (< прасл.* gręda ), недифференцированно живописуют территорию выпадения дождя и развивают в функции сравнительных наречий переносное значение ‘захватив длинное и сравнительно узкое пространство земной поверхности (о дожде и т. п.)’.
Заполнение объектной позиции в модели « дождь - как - строение » существительным стена ‘вертикальная часть строения, служащая для поддержания крыши и перекрытий…’ (< прасл.* stěna ‘камень, каменная стена’) в роли творительного сравнения обусловливает возникновение метафорического значения субстантива ‘…сплошная масса чего-л., образующая завесу…’ (ср. лит. стена… дождя , тумана ) и тем самым создание обобщенной зрительной картины дождя в виде отвесно падающей сплошной массы воды, которая мешает видеть удаленные предметы. Ср. Крайне надо в К а менку было. Дожж стеной , а надо. Л ю ша л ю шей [сильно промокшей] вернулася (Бурят. Каб. Каб.).
Речевое воссоздание образа дождя по признакам его проявления
Образный фокус в информации об акустическом проявлении дождя, вызванном ударами его капель по твердым наземным поверхностям, сосредоточивается в глаголе звучания барабанить ‘часто и громко стучать / часто и дробно стучать’. Ср. Дош вчера шибко в окно барабанил (Том. Том. Верш.). Редко «эксплуатируемый» в речи диалектоносителей, образ «дождь-как-ба-рабан» относится к общенародной парадигме образов «дождь-как-музыкальный инструмент»: лит. барабаны, гитара... дождя и др. [Павлович, 2009. С. 359-360]. Звуковой регистр метеоявления в диалектной системе вполне раскрывается метафорической семантикой глагола, которая поддерживается его прямым значением ‘бить в барабан, или ударами по барабану производить какие-л. звуки’ и в деталях воссоздается через связь со словами дробь, дробить, дробно, стук, стучать. В этом семантикоассоциативном контексте дождь воспринимается как издающий падающими каплями при ударе о твердые предметы прерывистые и резкие, частые и громкие короткие звуки, подобные тем, которые могут порождаться барабаном при ударе по нему.
Система «орудийных» образов метеонима замыкается на тех реалиях, которые с культурно-исторической точки зрения в большинстве своем являются атрибутами Бога грозы, грома и дождя (слав. Перуна ~ балт. Перкунаса) [Мифы.,1988. С. 304]. Так, в модели « дождь - как - гибкое орудие » роль инструментативного компонента, восстанавливаемого в процессе анализа семантической сочетаемости глаголов удара хлестать ‘бить, стегать чем-нибудь гибким (плетью, кнутом)’, сечь ‘бить, наказывать (розгами, плетью, хлыстом)’, могут выполнять лексемы бич , розга (< прасл.* bicь < * biti ; * rozga ‘предмет, из которого что-л. плетут, вьют’), плеть (< др.-рус. плетати ‘плести’), кнут (< др.-рус. кнутъ ‘узловатый бич’ ) , хлыст , используемые также при формировании поэтических образов [Павлович, 2009. С. 357]. Анализируемые глаголы, имея в качестве субъектного актанта метеоним, преобразуются соответственно в метафорические словозначения: ‘стремительно, с силой выливаться, литься (о дожде и т. п.)’, ‘с силой бить, хлестать (о дожде и т. п.)’. Ср. Гроза , дождь стал хлестать . Восподи Бог ! Ну , думаем , всю пшаницу побьёт , хлеб наш пропадёт (Якут. Олёк. Сан.). Вчерась помочил дождь-то , слава Богу. Дождь прохле-стал , земля-то твёрда (Том. Том. Верш.).
Сек у н - дожж , он сечёт. Это косой дожж. Бьёт как градом (Кем. Крап. Крап.).
Образ, схематично обрисованный в модели « дождь - как - молотило (т. е. цеп )», при его речевой экспликации проясняется через семантическую эволюцию лексемы молотить (ср. прасл. * moltiti > * moltidlo ), исход которой представлен значением ‘стремительно, с силой выливаться, литься (о дожде)’, отображающим функциональное состояние дождя. Ср. Вот дожж : туча зашла , да тёплый проливной д о жжык самый который , затуманило-то даже. Если он молотит хорошо , то прямо растения поднимаются (Кем. Юрг. Вар.). Приводимое значение глагола, утратившего связь с семантическим объектом, является смысловым трансформом субъектно-объектного лексико-семантического варианта ‘ударять, колотить’. В свою очередь, глагол удара метафорически возникает на основе словозна-чения ‘цепами или с помощью молотилки выколачивать, выбивать зерна из колосьев, метелок и др.’ (глагол удара / удаления объекта) в результате общности у них способа воздействия на объект (ср. дождь молотит по земле так, как молотило бьет по снопу / колосьям зерновых растений).
Супермодель « дождь - как - питание (для земли) » в ее объектной части, активизируя семантические подтемы «напиток», «пищевые продукты» на двух ступенях конкретизации, реализуется в виде схем на базовом («дождь-как-напиток / питье») и суббазовом («дождь-как-мука», «дождь-как-пища / еда») уровнях.
Образ дождя в проекции сравнения с напитком (питьем) воссоздается в пропозиции земля напилась дождём. Сосредоточенная в ней информация о дожде, продолжительно проливающемся на сухую землю, которая чрезмерно, в большом количестве впитывает в себя воду (ср. перен. напиться ‘принять в себя много влаги; обильно увлажниться’), обогащается и усиливается ассоциацией с напитком , необходимым для утоления сильного желания пить (ср. напиться ‘утолить жажду; попить, выпить чего-л. вдоволь’ < пить ). Ср. ...а так вот лил и лил , и лил [дождь] до корня. Ага , чтоб земля напилась ... (Кем. Юрг. Зел.).
Восприятие «дождя-как-пищи для земли» вызывается корнесловом, центрируемым глаголом питать ‘промачивать, насыщать землю влагой, необходимой для поддержания ее плодородия’ (питать > напитать > напитаться; питать > амур. питательный ‘затяжной, хорошо увлажняющий. О дожде’). Ср. Вот ветреный, ураганный дожж крупный как даст, и сразу ручьи побежали. А мелкий – это постепенный, тихий так, землю питает (Кем. Яшк. Н. Тайм.). Метафорическая образность глагольного слова обеспечивается ассоциацией с его прямым значением ‘давать кому-л. пищу; кормить’ (прасл. *pitati < *pita ‘пища, хлеб’). Вчера вот дожжик прошёл, землицу смочил, напитал её. (Бурят. Каб. Шерг.). А еслив, который дожжык идёт тихий, просто моросит… вот это хороший. Утром встанешь, зайдёшь в огород, душа радуется. Всё зелёненько, всё тихонько, и земля напиталась (Кем. Яшк. С. Остр.). Вон какой питательный дождь идёт, ежели бы тучный, так тот бы не промочил (Амур. Магд. Черн.).
Употреблением сравнительного оборота как мукой привносится в конкретную характеристику дождя указание на чрезвычайно малый (мельчайший) размер его капель. Ср. Мелкий дожж как мукой сеет , чуть-чуть , идёт как вроде туман (Кем. Яшк. Итк.). Модель « дождь - как - мука », будучи типизированной в диалектном языке, составляет базу образного словопроизводства: ср. ирк. мукос е й ‘очень мелкий дождь’, но амур. мукос е й ‘мелкий обложной дождь’ < ‘дождь, словно просеивающаяся [через сито] мука’ < сеять ‘очищать что-л. сыпучее от ненужных примесей, пропуская через сито, решето и т. д.’ и мука ‘порошкообразный продукт питания.’ а также устар. порош и на ‘мельчайшая частица чего-л.’
Речевое воссоздание образа дождя по смежности с реалией, являющейся источником его образования
Образное впечатление о дожде также проистекает из восприятия неба (лит. облачное, затученное, дождливое _ небо) как источника влаги (лит. небесный дождь; дождевая вода), которой орошается земля. Освоение «затученного неба / небесных туч-как-вместилища влаги» происходит по аналогии с предметами хозяйственной утвари, бытующими в общенародном употреблении с давних времен (прасл.*Ьъська, *vedro, др.-рус. ковшь, собств.-рус. ушат). Из выражений о дожде, в которых перечис- ленные номинации используются в сравнении, складывается понимание дожденосных туч как резервуаров, сходных друг с другом характером излияния воды. Этой особенностью они определяют в сознании картину обильно, сплошной массой льющегося дождя. Ср. конкретные ОМ, означенные разными номинациями объекта сравнения: «туча-как-бочка» - Ну, дождь сегодня, прорвало как из бочки (Ирк. Ольх.); «туча-как-вед-ро» - Веснённый дожж быват весной. Он пройдёт, ведром прольёт, и тут высохнет (Кем. Юрг. В.-Тайм.). Раньше маленька ту-чечка найдёт, и дожж льёт как из ведра и тёплый (Кем. Яшк. Кул.); «туча-как-ушат» - Дождь как из ушата льёт, улевен (Красн. Кеж.); «туча-как-ковш» - Бывало, дожж как из ковша, а мы хлеб жали и суслончик ставили, и просыхали [снопы] (Кем. Крап. Бор.).
Своеобразие других «плювионимиче-ских» образов обусловливается отождествлением дождевого неба, туч с ситом (прасл. * si-to < * seti ‘сеять’), через отверстия которого падает дождь, словно просыпается мука ( ситн-ая / ый... мука , хлеб ; мучное сито ). На фоне смежного образа « туча - как - сито » формируется образное представление о ситном дожде ‘мельчайшем частом дожде, словно муке, мучной пыли’. Ср. Вот сёдни дожж сеет и сеет как через сито (Кем. Крап. Кам.). Мелкий дожж идёт как скрозь сито (Кем. Яшк. Полом.). Ср. кем., чит. с и тник ‘мелкий дождь’< с и тный дождь ‘дождь, как бы [просеянный] через сито’ < сито ‘предмет для процеживания, просеивания - обруч с натянутой на него очень частой мелкой сеткой’.
С видением « тучи - как - решета » рождается убеждение, что дождь падает с неба в виде решётной муки < решето ‘.утварь виде деревянного обода, на который натянута сетка, служащая гл. образом для просеивания муки’ (ср. мучное решето ) < прасл. * res-eto < * гехъ < * rёdxъ < * rёdъ ‘редкий’, в связи с чем в образе дождя выделяются очень мелкие редкие капли. Ср. Дожж не дожж , а так , как сквозь решета ну бус и т и бус и т (Кем. Юрг. Зел.).
Модель «грозовая туча-как-жёрнов» воссоздается опосредованно при опоре на первоначальное значение глагола молоть ‘дробить, размельчать зерно, превращая его в муку, крупу, порошок’ (жернова мелят хлеб < прасл. *melti < и.-е. *mel- ‘размель- чать, молоть’), который сочетается с метеонимом дождь в метафорическом значении ‘идти, падать мелкими каплями (о дожде)’. Ср. А в гнойной погоде мелкий бывает дожжык, как в сито мелет, мелет – это сеногноитель (Кем. Юрг. Вар.). Происхождение метеонимической дистрибуции объясняется тем, что на метеоним, обозначающий выпадение дождя в виде мелких частиц, напоминающих смолотый хлеб, распространяется по метонимическому принципу сочетаемость орудийного наименования тучи (ср. «дождь-как-жёрнов»), которая является источником появления дождя.
Рассмотрение образных представлений как доязыковых когнитивных структур возможно лишь путем реконструкции на основе результатов их речевой трансляции (ср., например, дождь-как-мука), а также системного закрепления в языке (ср. ирк. мукос е й ‘очень мелкий дождь’).
Наглядно-чувственное осмысление дождя, отображенное в речевых произведениях, осуществляется с помощью разнокодовых воплощений, которые, будучи организованными в семантические ряды (ср. дождь-как-полоса / гряда и др.) и пучки «дождь-как-стена», «дождь-как-полоса», «дождь-как-мо-лотило» и т. д., составляют, по мнению Д. С. Раевского, «движущие силы и механизм существования и осуществления» кон-цептного моделирования (цит. по: [Маковский, 1996. С. 15]).
Образы дождя, воспроизведенные в речевых артефактонимных моделях его интерпретации, выстраиваются в рамках деятельности сельского жителя и по подобию вовлеченных в нее действий и объектов, связанных с земледелием, различными (бондарным, ткаческим, мукомольным и др.) промыслами, домашним бытом и отчасти внешним миром. Для их оформления используются такие выразительные средства, как языковые метафоры (барабанить, хлестать и др.), собственно образные слова (полосатить, питательный), сравнительные обороты (как мукой, как из ведра), творительный сравнения (стеной) и сравнительные наречия (полосой). Диалектный арсенал артефактонимных моделей, закрепляя в себе общерусскую образную картину мира, специфичен в том смысле, что расширяет конкретные OМ регионально маркированными или значимыми средствами ее вы- ражения (ср. нар. грядочкой, полосатая ткань, ушат, мука).
При создании конкретных ОМ в качестве номинаций объекта сравнения употребляются разнообразные лексемы, которые складываются в ситуационный ряд по единому содержательному параметру (ср. дождь-как-полоса / гряда; дождевое небо-как-бочка / ведро/ ковш/ ушат), несмотря на то, что в языке они имеют иерархическую организацию. Это является показателем древности ОМ [Там же. С. 14], созданных мышлением архаического человека, в том числе мифопоэтическим [Лукьянова, 2003]. Множественность номинаций для одного субъекта сравнения и разновременность их обновления в знаковой репрезентации ОМ свидетельствуют об их унифицированности при плюралистическом видении действительности и репродуцирующем упрочении.