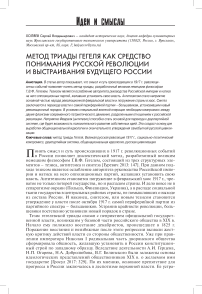Метод триады Гегеля как средство понимания Русской революции и выстраивания будущего России
Автор: Холяев С.В.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 3 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье автор показывает, что смысл и суть происходивших в 1917 г. революционных событий позволяет понять метод триады, разработанный великим немецким философом Г.В.Ф. Гегелем. Тезисом является ослабление авторитета руководства Российской империи и натиск на него оппозиционных партий, желавших установить свою власть. Антитезисом стало неприятие основной частью народа революционной февральской власти и погружение страны в хаос. Синтез заключается в переходе власти к самой периферийной партии - большевикам, установившим новый революционный порядок. В условиях специальной военной операции необходим компромисс между двумя флангами современного патриотического движения, разделенными отношением к российской революции. Неприятие Февраля (антитезис) способно стать основой для перехода к двухпартийной системе, где будет возможность положительного развития собственных идей. Это создаст основу для выработки общенациональной идеологии и окончательного утверждения самобытной русской цивилизации.
Метод триады гегеля, великая русская революция 1917 г, социально-политический компромисс, двухпартийная система, общенациональная идеология, русская цивилизация
Короткий адрес: https://sciup.org/170210362
IDR: 170210362 | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-3-226-232
Текст научной статьи Метод триады Гегеля как средство понимания Русской революции и выстраивания будущего России
Понять смысл и суть происходивших в 1917 г. революционных событий в России позволяет диалектический метод, разработанный великим немецким философом Г.В.Ф. Гегелем, состоящий из трех структурных элементов – тезиса, антитезиса и синтеза [Гуревич 2013: 147]. При данном подходе тезисом является ослабление авторитета руководства Российской империи и натиск на него оппозиционных партий, желавших установить свою власть. Антитезисом становится погружение в февральский хаос 1917 г., чреватое не только потерей государства, но и распадом страны. И дело вовсе не в сепаратизме окраин (Польша, Финляндия, Украина), а в распаде социальной ткани государства в центральных районах страны, не помышлявших о выходе из состава России. И наконец, синтезом, или новым тезисом становится утверждение у власти после октября 1917 г. самой периферийной партии из партийного спектра – большевиков. Устранив крайности революции, большевики постепенно установили новый порядок в стране.
Тезис гегелевской триады связан с неприятием официальной государственной власти, возникшим у базовой части российского общества в XIX в. Начало ему положило восстание декабристов, происшедшее в 1825 г. Поражение восстания и неизбежные после этого репрессии вызвали жесткую критику действий власти со стороны общественности. Уже при правлении императора Николая I радикальная часть дворянского общества сформировала общность, желавшую установить в России конституционный строй по западному образцу. Вследствие деятельности А.И. Герцена, Н.П. Огарева, Н.А. Добролюбова, В.Г. Белинского были заложены основы идеологических представлений общественников XIX в. о желаемом ими государстве [Гросул 2017: 329]. По их мнению, основное препятствие для прогресса в России заключалось в деспотизме верховной власти. Ее устра- нение должно было создать условия для свободного развития общества [Сараева 2009: 38, 45, 47].
Радикальная часть дворянства, решив, что ее противником являлось тогдашнее государство, допустила стратегическую ошибку. Ведь гуманистически настроенные «люди общественной среды» объективно должны были помогать императорской власти в ее борьбе с крепостнической частью дворянства. Вместо этого русская общественность вступила в конфликт с верхним этажом государственной власти (правительством), в итоге начав сотрудничество с иностранными государствами якобы с целью распространения свобод в стране, а на деле ослабив геополитическое влияние российского государства. Революционно-демократическое движение, разросшееся первоначально из одной-двух сотен людей во второй четверти XIX в. до десятков тысяч приверженцев к концу XIX в., оказалось союзником сил, стремящихся к ослаблению России [Маркс 2022: 44-45].
Окончательно пути общественных активистов с властью разошлись при Александре III. Властям казалось, что при подавлении низовых рабочих и социалистических организаций страна вернется в лоно порядка, однако они не учли, что главные революционеры принадлежали к общественным верхам. Основные кадры ожидавшейся революции, «штурманы будущей бури», проходили революционное становление в гимназиях и земских учреждениях в 1880–1890-х гг. Там и тогда начиналась их антиправительственная деятельность: из александровских гимназий они выходили убежденными революционерами. Ученическое поколение данной эпохи составило костяк партий и общественных движений, подготовивших Февраль 1917 г. [Новая имперская история… 2017: 276]. А через земства оппозиционеры попадали на государственную службу, но лишь для того, чтобы в рамках официально существующих учреждений создавать альтернативную систему взаимоотношений, готовить кадры для грядущего либерально-революционного переворота [Кузьмина, Лубков 2008: 109].
Разрешение на легальное создание партий в 1905 г. пришлось как нельзя кстати. Форма партийности оказалась удобной для раздираемых противоречиями оппозиционеров. Выстроить общую для всех структуру они никак не могли, хотя попытки ее создания периодически предпринимались. Достаточно вспомнить знаменитый Союз Союзов, в котором взаимодействовали либералы и социалисты в 1905 г. [Дмитриев 1992: 6]. В партиях могли собираться люди с более близкими политическими взглядами, хотя и там имелось немало противоречий, зачастую неразрешимых. Основные партии, сформировавшиеся в начале XX в., – от кадетов до социалистов – выражали враждебные государству настроения и не собирались считаться с его интересами. Только две партии – черносотенцы и октябристы (правые и правоцентристы) – намеревались сотрудничать с правительством. Октябристы хотели встроить партийный сегмент в общую политическую систему реформированного государства, а правые – объединить под своими знаменами большую часть народа, правда, исключительно с целью последующей ликвидации партий. Власть не сумела реализовать эти проекты. Указанные партии также перешли на оппозиционные рельсы, и партии в целом оказались чуждым элементом для российского имперского государства [Первая революция в России… 2005: 528-529, 534-535].
Антитезисом явилось непризнание новой революционной власти (февральской) народными низами – рабочей и особенно крестьянской массой, часть которой были одеты в серые солдатские шинели и черные матросские бушлаты. В глазах основных слоев народа, удельный вес которых доходил до 90% населения, февральские органы управления во главе с Временным правительством, за исключением Советов, оказались абсолютно нелегитимными. Наступил «праздник народного непослушания». Солдаты отказывались подчиняться своим офицерам. Солдатские комитеты, образованные на фронте и в тылу, решали, выполнять приказы командования или нет. Рабочие на тачках вывозили мастеров из цехов [Булдаков 1997: 81].
Но наибольших успехов в неповиновении власти добились крестьяне. К ним перешли ее низовые структуры – волостные комитеты общественной безопасности (КОБы). КОБы заняли в регионах положение, аналогичное Совету в Петрограде. Но их нижний, волостной этаж оторвался от уездного и губернского уровней, отошедших к городскому населению, где и находились основные приверженцы победившей революции. Победители Февраля потеряли деревню – крестьяне там стали единственным руководящим элементом и на проводимых ими заседаниях официально принимали решения о распашке земель и вырубке лесов в помещичьих угодьях. Стремление вернуть волостные КОБы в подчинение вышестоящим органам привело летом–осенью 1917 г. к введению на сельском уровне волостного земства, категорически отвергнутого крестьянством. Насильственная ликвидация крестьянских КОБов, проведенная городскими властями, привела в предоктябрьские дни к массовым восстаниям в деревне, на которые часто ссылался В.И. Ленин в преддверии октябрьских событий. В ряде случаев закрытие комитетов сопровождалось открытыми столкновениями, где крестьяне пытались защитить свою ликвидируемую власть [Герасименко 1992: 93-94, 112, 278].
На губернском и уездном уровнях, то есть в городах, ситуация складывалась не лучше. Уже в мартовские дни 1917 г. произошел разрыв центральной власти и губернских органов управления, причем на обоих уровнях власти в то время находились представители одного политического лагеря – либерального. Но разногласий между ними хватало. Во Временном правительстве перевес оказался у выходцев из партий, не перешедших в революционную весну, от октябристов до прогрессистов, а на губернском уровне в КОБах первоначально возобладали члены последней оставшейся в революции либеральной партии – кадетской. При этом в самих губерниях началось стремительное падение авторитета кадетов. На передний план в провинции все более активно выходили социалисты – от эсеров до большевиков1. К лету 1917 г. власть в уездах полностью перешла к эсерам; в том же направлении, только медленнее, развивались процессы и в губерниях. Но и движение эсеров и меньшевиков наверх не сближало февральскую власть с народом. Преодолеть разрыв с народом у февралистов не получилось [Чернов 2004: 336-337].
Принято считать, что основную угрозу в 1917 г. нес сепаратизм – тяга к независимости, исходившая от Польши, Финляндии, Украины, других национальных образований. В реальности большую опасность представляли процессы в центральных районах страны. В губерниях средней полосы России, включая Верхнее Поволжье, в т.ч. и Ярославскую губернию, никто не помышлял о выходе из состава России. Но происшедший здесь в февральско-октябрьский временной промежуток обвал власти, разрыв социальной ткани государства были чреваты гибелью российской государственности [Козлов, Резвый 1957: 27-28].
Синтезом, третьим этапом, стал приход к власти большевиков, оказавшихся наиболее подготовленными к действиям в условиях нарастающего хаоса. Большевики изначально располагались на периферии партийной системы и привыкли к нахождению в меньшинстве. Об этом ярко писал в своей работе «Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения» В.И. Ленин. «Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем». При этом новую партию, полагал Ленин, «общественники» порицали за то, что, соединившись в отдельную группу, те конфликтовали не только со старой самодержавной монархией, но и другими революционными и оппозиционными партиями [Ленин 1963: 9-10]. Следовательно, большевики оказались в серьезном конфликте с победившими в феврале «прогрессистскими» общественными силами.
Большевики, пребывая в противостоянии с победившими профевраль-скими силами, исторически были ближе всего к народу. Страна также не приняла радикальных общественников, более полувека от имени народа готовивших смещение монархии. Большевики и народные низы, в соответствии с гегелевской триадой, отвергли антитезис – право на власть ниспровергателей Николая II в феврале 1917 г. На основе отрицания антитезиса началось устроение синтеза как нового тезиса – выстраиваемого большевиками революционного порядка на основе преодоления крайностей Февраля.
Главное, что сделали большевики, – восстановили единство государственной власти. Уже в октябрьско-ноябрьские дни им удалось наладить связь между центральной и губернской властью – без этого не могло состояться возвращение к государственному единству страны. Более подробно эти процессы показаны в нашей статье, посвященной взаимодействию Центрального Комитета большевиков и их губернских партийных структур на примере Верхнего Поволжья, опубликованной журналом «Власть» в 2015 г. [Холяев 2015].
Метод гегелевской триады, примененный к событиям 1917 г., позволяет по-другому взглянуть на российскую историю. Сегодня противоречивое отношение к российской революции раскалывает современное патриотическое движение. Правый взгляд, которого придерживаются правоконсервативные силы, православные монархисты, видит главного виновника российских проблем в большевиках. С другой, левой стороны, социалисты – сторонники Октября обвиняют монархистов и Николая II, что они своим безразличием к народным нуждам довели страну до революции [Малофеев 2022: 462-465; Ольштынский 2014: 27, 29-30].
Оба фланга российского патриотического движения сейчас поддерживают специальную военную операцию, но относительно прошлого ведут непримиримую войну. Это недопустимо! А применение метода гегелевской триады наглядно показывает, что для столь острого спора о прошлом нет объективных оснований. Признание обеими сторонами негативной роли Февраля (антитезиса) позволит соединить два ключевых этапа русской истории – период Российской империи и советский период. Антитезисом является позиция тех сил, которые с середины XIX в. начали подготовку к свержению монархии. По другую сторону от них находились официальные власти Российской империи и новая большевистская власть, приступившая к созданию собственного государства после подавления Февраля.
И хотя большевики принадлежали к оппозиционно-революционным силам, боровшимся с монархией, самодержавием, они пребывали на их пери- ферии, не относясь к мейнстриму революционных кругов. Накануне 1917 г. в оппозиционном и революционном движении преобладали либералы, в особенности кадеты, и умеренные социалисты, эсеры и меньшевики. Последние даже входили в одну партию с большевиками – РСДРП, но меньшевики очень тесно примкнули к враждебному царизму конгломерату организаций, образовав вместе с эсерами авангардную группу для борьбы с монархией [Тютюкин 2002: 61].
Нахождение большевиков на периферии оппозиции сыграло положительную роль в исходе революционных процессов, поскольку только они имели возможность говорить с народом на одном языке, понимать друг друга. Только партия Ленина смогла успокоить разбушевавшееся народное море, вышедшее из повиновения любой власти. Альтернативой большевикам была исключительно гибель государства. Такой была воля истории или, как говорят православные, Промысел Божий. Синтез замкнул цепь революционных событий, вернув страну в лоно порядка. Большевики выполнили задачи, решаемые обычно контрреволюцией [Холяев 2024: 234-236].
В XXI в. России необходимо выработать единую национальную идеологию. Ее выработке мешают распри основных патриотических сил. И спор их напрямую вытекает из разного отношения к революции. Обе стороны не замечают, что разделяет их Февраль, под которым мы и видим упоминавшийся антитезис. Патриотические силы, пребывающие по разные стороны Февраля (антитезиса), обязаны работать совместно во имя будущего страны. Для этого им нужен социально-политический компромисс.
Основой компромисса должен стать переход к двухпартийной системе. Правая партия может быть образована на базе монархически-православ-ного подхода, выражающего позицию сторонников традиционных ценностей, ретроспективно поддерживающих деятельность традиционной власти в преддверии революции 1917 г., защитников исторической российской власти, потерпевшей поражение в Феврале. Фундаментом левой партии будут приверженцы Октября, защищающие социалистический выбор народа, положительно оценивающие политику большевиков, преодолевших Февраль (окончательно снявших антитезис).
Обе партии должны активно развивать собственные ценности, проводить больше времени в собственном кругу, постепенно привыкнув к развитию своих положительных идей. Как крупные общественные образования, новые партии призваны соединить в себе элементы парламентских партий, регулярно участвующих в выборах, и одновременно клубов по интересам, где в кругу единомышленников возможно проведение культурного досуга и общественных дискуссий. Одновременно в связи с ограниченным числом партий в них необходимы фракционные разделения, в связи с чем перед общенациональными выборами в качестве их первого этапа неизбежны внутрипартийные голосования, определяющие, какая из фракций обладает преимуществом, по мнению членов каждой из партий. В левую партию вероятно вхождение коммунистов, социал-демократов, других социалистов, а в правую – православных традиционалистов и либерал-патриотов, напоминающих прежних октябристов или правых кадетов, подобных В.А. Маклакову и П.Б. Струве. Фракция, победившая в партии, представляет ее на общенациональных выборах.
Образование двухпартийной системы позволит перейти к формированию общенациональной идеологии. Она будет строиться на основе элементов, характерных для каждой из образующих систему партий. Представления, прежде казавшиеся непримиримыми, впоследствии станут восприниматься органично присущими всей российской цивилизации. Глава государства1 для врастания партий в политическую систему может получить статус почетного председателя обеих партий. При этом у каждой из партий должен оставаться собственный председатель, реально отвечающий за политику партии, но статус почетного председателя придаст обеим партиям гарантии равных прав, а глава государства, отвечающий за общее направление всего государственного курса, окажется максимально нейтральным к каждой из ведущих политических партий. Обе партии соединят в единое целое кажущиеся сегодня несоединимыми представления обоих флангов российского патриотического движения, а разделяющее нас сегодня историческое прошлое станет основой прочного будущего.