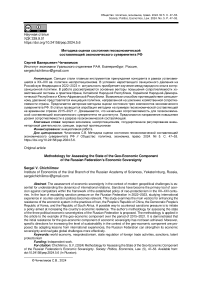Методика оценки состояния геоэкономической составляющей экономического суверенитета РФ
Автор: Чичилимов С.В.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 5, 2024 года.
Бесплатный доступ
Санкции стали главным инструментом принуждения конкурента в рамках установившейся в XX-XXI вв. политики неопротекционизма. В условиях нарастающего санкционного давления на Российскую Федерацию в 2022-2023 гг. актуальность приобретает изучение международного опыта контрсанкционной политики. В работе рассматриваются основные векторы повышения сопротивляемости хозяйственной системы в практике Ирана, Китайской Народной Республики, Корейской Народной-Демократической Республики и Южно-Африканской Республики. Возможным способом противодействия санкционному давлению представляется инициация политики, направленной на усиление хозяйственной сопротивляемости страны. Предлагается авторская методика оценки состояния трех компонентов экономического суверенитета РФ. В статье проводится апробация методики на примере геоэкономической составляющей на временном отрезке 2015-2021 гг. Доказывается, что начальная сопротивляемость для геоэкономической составляющей экономического суверенитета не достигнута. Предлагаются направления повышения уровня сопротивляемости в разрезе геоэкономической составляющей.
Мировая экономика, неопротекционизм, государственное регулирование внешнеторговой деятельности, санкции, скрытый протекционизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149145506
IDR: 149145506 | УДК: 339.9.01 | DOI: 10.24158/pep.2024.5.6
Текст научной статьи Методика оценки состояния геоэкономической составляющей экономического суверенитета РФ
Введение . Сформировавшийся к началу третьего десятилетия XXI в. инструментарий неопротекционизма, применяемый западными странами, опирается в первую очередь на санкционное давление как на главную ударную силу. Однако, по оценкам ряда экспертов, на практике механизм санкций, несмотря на причиняемый ими ущерб и многолетний шлейф последействий, не выполняет основную задачу – изменение политики подсанкционной страны в нужном для гос-ударств-санкционеров направлении (Афонцев, 2022: 194). Появление парадокса неэффективности санкций мы связываем с наработкой систем противодействия протекционистским ограничениям. Их основу образуют три ключевых направления перестройки национального хозяйства: технологическая суверенизация, диверсификация экономики и поиск новых геоэкономических союзников. Например, лидер по количеству активно действующих ограничений со стороны государств Запада до 22 февраля 2022 г. – Иран (3 616 санкций1) – смог за 20 лет практически с нуля создать сталелитейную промышленность (по итогам 2021 г. страна заняла 10-е место в мировой выплавке стали2) и войти в пятерку мировых лидеров по разработке БПЛА и двигателей к ним3. Венесуэла, находящаяся под санкционным давлением с 2014 г., стала первой в мире страной4, выпустившей национальную криптовалюту в 2018 г., а уже по итогам 2021 г. попала на 7-ю строчку в топ-10 стран по уровню внедрения криптовалют и системы блокчейн5. Корейская Народно-Демократическая Республика (2 133 ограничения на 1 февраля 2023 г., распространявшиеся в том числе на 90 % экспортной продукции и полностью запрещавшие импорт финуслуг6), несмотря на тяжелейшие последствия секционного режима (по данным ООН, ВВП на 2021 г. на душу населения снизился до 618 долл. США против 698 долл. в 2014 г.)7, благодаря взаимодействую с КНР (90 % товарооборота КНДР приходится на Китай, включая запрещенные топливные и высокотехнологические товары) смогла развить собственные ракето- и автомобилестроение8.
Международный опыт повышения сопротивляемости хозяйственной системы в условиях санкционного давления . В 2022 г. мировую экономику накрыло «санкционным цунами». Его беспрецедентность заключается в масштабном принуждении Российской Федерации к ведению нужной недружественным странам политики и выдавливанию российской продукции и бизнеса с западных рынков. В течение года 34 страны глобального Севера ввели против России 10 901 ограничение (на 1 февраля 2023 г. действовало в общей сложности 13 596 мер, или 54 % от всех рестрикций, установленных в мире). Для сравнения: за этот же период две другие наиболее санкционируемые страны – Иран (2-е место в санкционном антирейтинге) и Республика Беларусь (5-е) – суммарно получили разных ограничений (в большинстве случаев за возможное содействие РФ в обходе санкционного режима) в 10 раз меньше – 556 и 367 соответственно.
Можно выделить три главные особенности антироссийского «санкционного цунами». Во-первых, приоритетом объявлены (в 91 % случаев) конкретные физические лица или бизнес-ор-ганизации9, в отличие от практики секторального ограничения подсанкционных стран в 2000– 2020-х гг. Во-вторых, ограничительная политика санкционеров имеет ярко выраженный дуали-стичный характер, когда развитые государства выводят из-под ограничений критически важные для своих экономик ресурсы (с 8 марта 2022 г. – российский уран, закрывающий в США четверть потребностей атомной энергетики, обеспечивающей почти 20 % энергогенерации в стране10, с 24 марта 2022 г. – российские минеральные удобрения11, на которые в 2021 г. в импорте США приходилось 14 %12). В-третьих, кратно возросло применение вторичных и третичных санкций, призванных лишить страну-мишень поддержки любых союзников (под давлением США, например, китайские инвестиции в Россию в рамках глобального проекта «Один пояс – один путь» в 2022 г. сократились до нуля впервые с 2013 г.1).
Ключевой стратегией для преодоления санкционного давления и последствий агрессивного протекционизма является построение экономики сопротивления (Resilient Economy)2. Для ее формирования необходимо сосредоточить усилия на пяти главных направлениях – сохранении промышленного потенциала, суверенизации научно-технического сектора, обеспечении роста за счет независимой сырьевой и финансовой базы, укрупнении сферы обрабатывающей промышленности с последующим экспорторасширением и создании новых геоэкономических плацдармов. Рассмотрим пути их возможной реализации в практике отдельных стран-мишеней – Ирана, ЮАР, Катара, Китая.
Так, Ирану удалось сохранить и развить собственную автомобильную промышленность в период санкций благодаря сначала заключению лицензионных контрактов с условно дружественными странами (например, Францией), а затем модернизации производимых автомобильных платформ под локализацию производства. По итогам 2021 г. Иран произвел 894 тыс. автомобилей, обогнав по этому показателю Италию и заняв 18-е место в мире3. Южно-Африканская Республика, находясь под санкционным давлением на протяжении трех десятилетий 1960–1980-х гг., смогла не только сохранить индустриальный сектор (автомобилестроение ЮАР в начале 1960-х гг. включало в себя лишь отверточную сборку иномарок, а к концу 1970-х гг. уровень локализации в отрасли достиг 50– 60 % (Сухова, 2018: 332)), но и добиться определенной степени технологической независимости. Ядром государственной инновационной системы стали восемь научно-исследовательских советов (Research Councils), привлекших в страну несколько тысяч ученых из Европы и бывших колоний в Африке, которые успешно готовили и завершали прорывные проекты. В их числе можно назвать, например, первую в мире успешную пересадку человеческого сердца в 1967 г., проведенную доктором К. Бернардом в клинике «Гроот Шур» в Кейптауне; самостоятельное создание ядерной бомбы в 1975 г. (Скубко, 2011) (в 1993 г. ЮАР свернула ядерную программу и добровольно отказалась от использования ядерного оружия4); запуск атомной электростанции в 1984 г. (5 % производства электроэнергии в стране в 2021 г.)5. Торговая блокада Катара, инициированная государствами Персидского залива в 2017 г. (официальной причиной ее начала стали обвинения в связях с Ираном в обход санкций США), поставила под угрозу продовольственную безопасность государства, так как 90 % продуктов питания импортировались через Саудовскую Аравию6. Однако, реинвестировав доходы от продажи природного газа и нефти (5 и 1 % мировой добычи в 2021 г. соответственно)7 в развитие сельского хозяйства, катарской экономике за 2017–2021 г. удалось достигнуть 100 % уровня самообеспечения (фактически с нуля) по молочной продукции и мясу птицы, 46 % – в овощеводстве8, а общая доля сельскохозяйственного производства в ВВП возросла с 0,1 до 0,3 %9.
Едва ли не образцом резильентности стал пример Китая. В 1989 г. США и ЕС подняли первую (для периода современной глобализации) крупную волну санкций против КНР, включавших мораторий на поставки продукции военного и двойного назначения в порядке «наказания» за июньские события на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Ответом китайского правительства стали углубление реформ нового курса и привлечение в экономику западных производств в обмен на технологии. Это, в частности, позволило увеличить долю добавленной стоимости промышленности в ВВП с
12,2 % в 1989 г. до 15,7 % в 1992 г.1 Не менее важным шагом КНР в ответ на введение ограничений стала диверсификация связей во внешней политике и торговле. За 1990–1992 гг. Китай установил дипломатические контакты с 23 странами и даже начал сотрудничество с Тайванем, нарастил число торгово-экономических партнеров со 180 до 221 (Новоселова, 2015: 382). При этом торговля Тайваня с материковым Китаем (в том числе через Гонконг), несмотря на известные политические разногласия, увеличившись с 3,9 млрд долл. в 1990 г. до 17,9 млрд долл. в 1994 г. и 31,2 млрд долл. в 2000 г. (с 1993 г. КНР стала третьим по объему торговли партнером Тайваня после США и Японии), развивалась в последнем десятилетии XX в. быстрее суммарного китайского внешнеторгового оборота в 1,2 раза (Tung, 2004).
Состояние геоэкономической составляющей экономического суверенитета Российской Федерации . Инструментарий скрытого протекционизма, упаковываемый зачастую в различные пакеты санкций, в современной мировой практике обновляется едва ли не в ежедневном формате. Возможным способом противодействия санкционному давлению представляется инициация политики, направленной на повышение хозяйственной сопротивляемости. Как показывает международный опыт, в основе устойчивой экономики находятся развитый промышленно-технологический сектор, структурная трансформация, сохранение и упрочение геоэконо-мических плацдармов.
Основываясь на накопленном российской наукой концептуальном базисе теории экономической безопасности, мы разработали авторскую методику оценки уровня достижения экономического суверенитета РФ в условиях утверждения новых форм протекционизма. Ее ключевая задача – выявление уровня достижения страной экономического суверенитета в трех сферах (в отличие от методологии оценки уровня экономической безопасности, учитывающей большее количество вводных): промышленно-технологической, структурной, геоэкономической, обретение которого должно обеспечить полную сопротивляемость и стабильное поступательное развитие хозяйственной системы. Под последним мы понимаем возможность национальной экономики максимально быстро и автономно трансформироваться, реагируя на внешние и внутренние вызовы. Для каждого из 30 индикаторов, сведенных в методике (по 10 для каждой составляющей экономического суверенитета), проводится расчет цепных индексов (на основе официальной статистики Росстата и международных статистических индикаторов) относительного базового периода. При положительном тренде на рассматриваемом отрезке индикатору присваивается значение «+», при отрицательном – «–». Полученные положительные и отрицательные значения по каждому блоку индикаторов суммируются и в зависимости от итоговой суммы положительных значений делается вывод о текущей фазе сопротивляемости экономики страны к шокам. Итоговые величины по факту выступают маркером тренда, выявляя уязвимые места контрсанкционной защиты. Итоговая оценка в зависимости от числа положительных или отрицательных значений в каждой их трех групп индикаторов увязана с прохождением трех стадий достижения сопротивляемости (5–6 положительным значениям соответствует фаза «начальная сопротивляемость», 7–8 – «неполная сопротивляемость», 9–10 – «полная сопротивляемость»).
В рамках данной статьи мы предлагаем рассмотреть состояние геоэкономической составляющей экономического суверенитета РФ (таблица 1). Под геоэкономической составляющей экономического суверенитета мы понимаем готовность хозяйственной системы в случае необходимости переформатировать внешнеторговые связи за наименее возможное время и с минимальными экономическими потерями. На наш взгляд, она зиждется на трех опорных точках, сообразно которым и отобраны индикаторы. Во-первых, недопущение автаркии, несущей разрушительные последствия для хозяйственной системы, что проверяется через изменение доли РФ в мировой торговле. Во-вторых, диверсификация экспортно-импортного оборота по доле основных товарных групп и партнеров в экспортно-импортных операциях. В-третьих, формирование новой экономики знаний на базе синергии внутреннего (наличие запасов важнейших сырьевых ресурсов, передовых производственных технологий и человеческого капитала) и внешнего (зарубежные передовые производственные технологии) факторов для обеспечения устойчивого инновационного роста экономики (самообеспеченность РФ важнейшими ресурсами и изменение человеческого капитала). Конечно, было бы крайне важно протестировать методику на российской фактологии 2022–2023 гг., но по техническим причинам запаздывания подготовки исходных статданных практически реализовать эту задачу можно только с 1,5-годичным лагом отступа, поэтому оценка состояния геоэкономической составляющей экономического суверенитета РФ проведена на отрезке 2015–2021 гг.
Таблица 1 – Индикаторы состояния геоэкономической составляющей экономического суверенитета Российской Федерации в 2015–2021 гг.1
Table 1 – Indicators of the State of the Geo-Economic Component of the Russian Federation’s Economic Sovereignty in 2015–2021
|
Индикатор |
Период, г. |
||
|
2016–2018 |
2019–2021 |
2015–2021 |
|
|
Г1. Изменение доли РФ в ключевых макроэкономических показателях мировой экономики |
+ |
– |
+ |
|
Г2. Изменение доли РФ в мировой торговле товарами и услугами |
+ |
– |
+ |
|
Г3. Изменение доли РФ в мировой торговле в категориях добавленной стоимости |
+ |
– |
– |
|
Г4. Изменение доли РФ в мировом импорте машин и оборудования |
– |
– |
– |
|
Г5. Изменение доли топ-3 товарных групп в экспорте РФ |
– |
– |
– |
|
Г6. Изменение доли несырьевого неэнергетического экспорта в суммарном экспорте РФ |
– |
+ |
+ |
|
Г7. Изменение доли топ-3 партнеров в экспорте и импорте РФ |
– |
– |
– |
|
Г8. Изменение уровня самообеспеченности РФ важнейшими сырьевыми ресурсами |
+ |
– |
+ |
|
Г9. Изменение доли приобретенных РФ за рубежом передовых производственных технологий |
+ |
– |
– |
|
Г10. Изменение уровня человеческого капитала в РФ |
– |
– |
– |
|
Результирующая индикаторов геоэкономической составляющей суверенитета: 4+/6– (на 2021 г. начальная сопротивляемость не достигнута) |
|||
Геоэкономический суверенитет на 2021 г. также не достиг начальной сопротивляемости, имея четыре положительных оценки и шесть отрицательных. Положительная динамика за 2015– 2021 гг. выявлена в части изменения доли РФ в ключевых макроэкономических показателях мировой экономики (ВВП, ВНД, приток прямых иностранных инвестиций) и мировой торговле товарами и услугами, что свидетельствовало о неэффективности попыток недружественных стран вытолкнуть Российскую Федерацию на периферию мировой экономики в ходе волны санкций 2014 г. Одновременно с этим увеличение за 2015–2021 гг. доли несырьевого неэнергетического экспорта в суммарном экспорте РФ (с 34,55 до 38,63 % за указанный промежуток времени) и уровня самообеспеченности важнейшими ресурсами – зерном (валовый сбор возрос с 104 до 121 млн т), пресной водой (стабильное 2-е место в мире), разведанными запасами нефти (повышение с 102,4 до 107,7 млрд баррелей), железной руды (остался на отметке 25 трлн т), редкоземельных материалов (повышение с 18,0 до 19,3 млн т) – позволяет сделать вывод о готовности хозяйственной системы России выдержать даже жесткое санкционное давление. Выход на рубеж начальной сопротивляемости обеспечит углубление диверсификации экспортно-импортной деятельности в товарном и географическом разрезах. При этом геоэкономический суверенитет подразумевает исключение автаркии при любом сценарии развития событий, гарантом чего станет наращивание человеческого капитала, являющегося ключевым фактором развития в условиях шестой инновационной волны.
Для перехода к фазе начальной сопротивляемости на уровне геоэкономического суверенитета не хватало небольшого импульса (в разделе на четыре плюса пришлось шесть минусов), например удлинения внутренних цепочек создания стоимости на базе промышленного и структурного суверенитетов с их дальнейшим встраиванием в мировые и, как следствие, повышения степени участия РФ в мировой торговле не только по «валу», но и в категориях добавленной стоимости. Вместе с тем ключевая опасность для геоэкономической устойчивости, на наш взгляд, кроется в сохраняющейся излишней зависимости как от конкретных товаров, так и от внешнеторговых партнеров.
Заключение . Главным условием успешного противодействия санкционному давлению нами рассматривается отстраивание экономики сопротивления через достижение промышленно-технологического, структурного и геоэкономического суверенитетов. Для оценки сопротивляемости экономики РФ разработана авторская методика, опирающаяся на принципы верифицируемости получаемых результатов, определения позиции российской экономики на шкале сопротивляемости, неприменения интегральных показателей устойчивости экономики, диалектической трактовки понятия «геоэкономический суверенитет» и практико-ориентированности методического аппарата. Ее апробация на примере оценки состояния геоэкономической составляющей экономического суверенитета Российской Федерации показала, что по итогам 2021 г. начальная сопротивляемость не достигнута, а основные риски для геоэкономической устойчивости состоят в зависимости от конкретных товарных групп и внешнеторговых партнеров.
Список литературы Методика оценки состояния геоэкономической составляющей экономического суверенитета РФ
- Афонцев С.А. Политические парадоксы экономических санкций // Журнал Новой экономической ассоциации. 2022. № 3. С. 193-197. DOI: 10.31737/2221-2264-2022-55-3-10 EDN: PMQIJE
- Новоселова Л.В. Китайский опыт преодоления международных санкций // Россия: тенденции и перспективы развития: материалы XV Междунар. науч. конф. "Модернизация России: ключевые проблемы и решения" / отв. ред. Ю.С. Пивоваров. М., 2015. Ч. 1. С. 381-385. EDN: UDCXQP
- Скубко Ю.С. ЮАР на пути к экономике знаний: наука, университеты, инновации: монография. М., 2011. 146 с. EDN: QYLGED
- Сухова М.Е. Социально-экономическое развитие ЮАР на современном этапе // Collegium Linguisticum: материалы ежегодной конференции Студенческого научного общества МГЛУ: в 2 ч. / отв. ред. И.А. Гусейнова. М., 2018. Ч. 1. С. 325-336. EDN: YZRIGL
- Tung C.-Y. Economic relations between Taiwan and China // Revista UNISCI. 2004. No. 4.