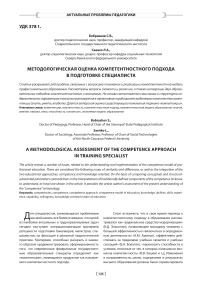Методологическая оценка компетентностного подхода в подготовке специалиста
Автор: Саенко Л.А., Бобрышов С.В.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Актуальные проблемы педагогики
Статья в выпуске: 2 (43), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья раскрывает ряд проблем, связанных с вопросами понимания и реализации компетентностной модели профессионального образования. Рассмотрены вопросы схожести и различий, а также интеграции двух образо- вательных подходов: компетентностного и знаниевого. На основе сопоставления смысловых и структурно-со- держательных параметров показаны противоречия в трактовках традиционно выделяемых компонентов компе- тенции (знать, уметь, владеть). Дается авторская оценка существующего понимания термина «компетенции».
Компетентность, компетенции, компетентностный подход, компетентностная модель образования, знания, навыки, умения, опыт, способность, готовность
Короткий адрес: https://sciup.org/14120112
IDR: 14120112
Текст научной статьи Методологическая оценка компетентностного подхода в подготовке специалиста
Д ля специалистов, занимающихся проблемами высшей школы, все более очевидно, что одной из наиболее актуальных и труднореализуемых задач сегодня выступает операционализация критериев успешности подготовки бакалавров, магистров, специалистов, их фиксация в реальной педагогической практике. Критериев, способных раскрыть и каким-то образом продемонстрировать сформированность того, что современные федеральные государственные образовательные стандарты определяют как «компетенции», являющиеся продуктом так называемого компетентностного подхода.
Стоит вспомнить, что в свое время переход к компетентностному подходу в образовании рассматривался как «радикальное средство модернизации» (Б.Д. Эльконин), позволяющее молодому человеку с большей эффективностью «включаться в определенную деятельность» (А.М. Аронов), «эффективно действовать за пределами учебных сюжетов и учебных ситуаций» (В.А. Болотов), «переносить способности в условия, отличные от тех, в которых изначально возникла компетентность» (В.В. Башев) и т.д. Изменения в направленности, целях, содержании и результатах высшего образования должны были сориентировать на «свободное развитие человека», на прерогативу творческой инициативы и самостоятельности студентов, на достижение трансгосударственной конкурентоспособности и мобильности будущих специалистов. Поднятые на знамя революционной модернизации профессионального образования компетенции (переориентировавшие оценки результата образования с понятий «подготовленность», «квалифицированность», «грамотность», «образованность», «культурность», «воспитанность» и т.д. на некие безликие понятия «компетенция», «компетентность») были объявлены панацеей чуть ли не от всех наших образовательных бед. И что получили? Написаны были тысячи статей и сотни диссертаций, предметом рассмотрения которых становились всевозможные компетенции в самых различных сочетаниях. Изданы несколько поколений государственных образовательных стандартов. Но реалии практики позволяют констатировать, что от произнесенного вслух «…мы реализуем компетентностный подход», от частоты употребления в учебных программах терминов «компетенция», «компетентность» и «компетентностный подход» ситуация в нашем образовании не улучшается. Как следствие, в высшей школе продолжает сохраняться ориентация на критикуемую представителями компетентностного подхода «ЗУНовскую» модель образовательного процесса. Слабо представлена его индивидуально-личностная направленность, у выпускников практически не формируются навыки, носящие надпрофессиональный характер и т.д. А сами компетенции ничего, кроме раздражения, у преподавателей высшей школы не вызывают. Но проблема ли это самих компетенций? Конечно, нет. Это проблема понимания их смысловых и сущностно-содержательных основ, а также организации работы по их претворению в жизнь.
Анализ современных работ по вопросу о том, что вуз и работодатели должны диагностировать на этапе промежуточной и итоговой экспертизы качества подготовленности выпускника, показывает, что фокус внимания исследователей данной проблемы в основном лежит в пересечении когнитивной, деятельностной и субъектно-личностной плоскостей профессиональной подготовленности. В исследованиях подчеркивается, что одним из важнейших обобщающих принципов образовательной политики должно выступить развитие у студентов практикоприменительных параметров профессионального опыта, деловых и личностных качеств. Но что это за параметры опыта?
Обращаясь к научным истокам компетентност-ного подхода, мы видим, что его модель восходит к идеям, разработанным еще в школах В.В. Давыдова, В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, Ю.П. Сокольникова, Д.Б. Эльконина и др., где в содержание образования были введены в качестве важнейших самостоятельных компонентов опыт творческой деятельности и опыт эмоционального отношения, т.е. идея опыта (причем опыта по своей сути неалгоритмического, т.е. не сводимого чисто к знаниям, умениям, навыкам) как самостоятельного образовательного результата. Серьезным основанием для формирования рассматриваемого подхода стали многие положения гуманистической психологии, такие как ориентация образования на «личностный рост», «самоактуализацию», «развивающую помощь», т.е. на феномены, отражающие главное в личности настоящего специалиста – устремленность в будущее, способность к реализации своих потенций и творческому саморазвитию, возможность достижения «идеального Я». Но вот вопрос: где в современных документах, регламентирующих образование, присутствует такое понимание?
Можно утверждать, что применение компе-тентностного подхода сегодня сопряжено с рядом трудностей теоретико-методологического характера, к которым можно отнести, во-первых, недостаточную понятийную определенность и смысловую неустойчивость самого термина «компетентность»; во-вторых, структурную неопределенность компетентности (т.е. из каких компонентов состоит феномен «профессиональная компетентность»; к слову, термином «компетенция»/«компетентность» в исследованиях обозначаются самые разные явления: умственные действия (процессы, функции), личностные качества и свойства, способности, мотивационные и волевые характеристики, ценностные ориентации и установки, особенности межличностного взаимодействия, практические умения, навыки и т.д.); в-третьих, отсутствие в научном мире согласованного перечня «необходимых и достаточных» компетентностей в системе профессиональных и личностных свойств специалиста.
Кратко уточним понятие компетентности/ком-петенции. При этом обратимся к первоисточникам, к тем исследователям, которые и ввели когда-то данные термины в понятийное поле образования.
Если обратиться к работам Н. Хомского, который одним из первых в 60-ых гг. XX в. начал употреблять термин «компетенция» в контексте образования, то можно увидеть, что данный термин первоначально означал способность, необходимую для выполнения определенной языковой деятельности. «Мы проводим, – писал ученый, – фундаментальное отличие между компетенцией (знанием своего языка тем, кто говорит-слушает) и употреблением (реальным использованием языка в конкретных ситуациях). Только в идеализированном случае употребление является непосредственным отражением компетенции» [12, с. 9]. При этом «употребление» в смысловом плане трактуется здесь как актуальное проявление компетенции, выступающей как нечто потенциальное, скрытое, непроявляемое.
А.В. Хуторской подчеркивает, что компетенция – это «отчужденное, наперед заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке учащегося, необходимой для его качественной продуктивной деятельности в определенной сфере». Компетентность же, по мнению ученого, соотносится с «владением, обладанием человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности», это – «совокупность личностных качеств студента (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его деятельности в определенной социально- и личностно-значимой сфере» [13, с. 168]. В таком подходе можно сказать, что характеристика человека как компетентного – это своего рода социальное и профессиональное признание.
Джон Равен, один из авторов компетентностно-го подхода в английском образовании, в своей работе «Компетентность в современном обществе» (1984 г.) представил свое толкование этого понятия. Это явление «состоит из большого числа компонентов, многие из которых относительно независимы друг от друга… Некоторые компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, а другие – к эмоциональной…, эти компоненты могут заменять друг друга в качестве составных эффективного поведения» [8, с. 19–20]. При этом «виды компетентности» по сути являются «мотивированными способностями». Джон Равен обращает внимание на необходимость приобретения учащимися компетентностей, включающих не только стандартные навыки, но также поиск информации, необходимой для достижения цели (такую информацию чаще приходилось добывать в процессе непосредственного наблюдения или общения с людьми, чем путем чтения книг), изобретательность, умение убеждать, руководить (лидерство) и т.д. Следовательно, под компетентностью Джон Равен понимает специальную способность, необходимую для выполнения конкретного действия в конкретной предметной области, включающую узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а также понимание ответственности за свои действия.
Итак, по мнению основоположников подхода, компетенция – это то, что существует в предчелове-ческом, в преддеятельностном состоянии и качестве, это мысль, высказанная устно или зафиксированная письменно, содержащая лишь образ, описание того, что хотелось бы или что должно быть в идеальном виде и в самом полном объеме представлено у человека в его знаниях, умениях, личностных качествах. Это содержание образования, перечень тре- бований к будущему специалисту. Но, как говорится, от желания до действительности порой «дистанция огромного размера». Лишь усвоенные (в том или ином объеме) на занятиях и в практике (т.е. актуализированные, интериоризированные) компетенции, переплавленные в индивидуальные знания, умения, навыки, личностные качества, ценностные ориентации, мотивационно-ценностные установки и т.д. профессионально значимые личностные свойства и характеристики, непосредственно обеспечивающие возможность осуществления профессиональной деятельности конкретным человеком, могут быть названы компетентностями. В.А. Болотов, И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и другие ученые как раз соответствующим образом и понимают компетентность именно как личностное качество, сигнализирующее о том или ином уровне притязаний, направленности, эмоционально-волевой регуляции, ценностносмысловом отношении специалиста к объектам профессиональной деятельности. При этом принято считать, что отличительная особенность данного результата от традиционных ЗУНов – это его системный, синтезирующий, практико-ориентированный характер. По образному выражению В.А. Болотова и В.В. Серикова, отличие компетентностной модели образования от знаниевой так же велико, как, например, знакомство с правилами игры в шахматы от самого умения играть [5, с. 11]. Заметим здесь только одно: ученые подчеркнули – отличие от знаниевой модели! Но ведь критикуемая ЗУНовская модель (в общепринятом понимании – знания, умения, навыки) – это далеко не знаниевая. Если я говорю, что я умею играть в шахматы и у меня есть навык игры в шахматы – значит, я практически это уже делал и добился определенных результатов. Это и есть ясное указание на практико-ориентированный характер результатов овладения данной игрой.
Приведем для сравнения понимание компетенции в западной традиции, в частности, в американском и в английском подходах, в рамках которых она соответственно рассматривается как личностные черты и характеристики деятельности .
Исследователи из Открытого университета Нидерландов отмечают, что в рамках американского подхода на первый план выходят поведенческие характеристики компетенции, и основным вопросом, решаемым в рамках данного подхода, выступает то, какие личностные черты определяют успешные действия? Американские исследователи компетенцию понимают как некий основополагающий поведенческий аспект или характеристику личности, которая проявляется в эффективном и/или успешном действии и которая зависит от контекста действия, от организационных факторов и факторов среды, а также обусловливается характеристиками профессиональ- ной деятельности. Принято считать, что американский подход к пониманию компетенции берет начало из практики рекрутмента и профотбора [14, с. 5].
Англичане же в своем определении компетенции сосредоточиваются не на личностных характеристиках исполнителя деятельности, а на свойствах самой деятельности. При этом главный вопрос, который решается в этом направлении – каковы те главные элементы деятельности, которые должны быть выполнены, чтобы можно было считать, что результат достигнут, что он удовлетворяет заданным требованиям. Соответственно, работники проявляют свою компетентность постольку, поскольку их деятельность достигает или же превосходит принятые стандарты. Таким образом, в компетенции интегрируются те исполнительские параметры, которые характеризуют осуществление деятельности для достижения результата. Английские исследователи утверждают, что английский подход к проблеме компетенций появился как ответ на неудовлетворительную подготовку менеджеров в 80-х гг. и отразился в появлении ряда профессиональных стандартов [14, с. 5].
В целом видно, что английский подход к пониманию компетенций направлен на изучение характеристик деятельности и на их выполнение, тогда как американский концентрируется налюдях, которые эту деятельность выполняют, на их личностных свойствах и качествах, т.е. это, по большому счету, не ответ на вопрос, что должен знать и уметь специалист, это вопрос – каким должен быть специалист, чтобы успешно выполнять ту или иную деятельность. Иллюстрацией к данному подходу может служить сформулированное в документах ЮНЕСКО видение результата образования. Таким результатом должен стать человек предприимчивый и творческий, самостоятельный и ответственный, способный видеть и решать проблемы как автономно, так и в группах; умеющий постоянно учиться новому, находить и применять нужную информацию и т.д. Причем все перечисленные свойства и качества необходимы любому человеку и в любой профессиональной деятельности [6, с. 75–78].
Подчеркнем еще раз: значимым является то, что обозначенный подход обращает внимание не столько на уровень развития отдельных профессиональных знаний и умений, по-прежнему традиционно диагностируемых в ходе курсовых и выпускных экзаменов или при различного рода тестированиях, сколько на уровень профессионально значимых личностных свойств и качеств, в целом на профессиональную и социальную позицию личности.
Обобщая вышеизложенное, заметим, что в отечественной научно-педагогической литературе сегодня сложились две противоположные точки зрения на присутствие терминов «компетенция» и «компетентность» в образовании.
Первая точка зрения: компетенции и компетентности – всего лишь своеобразная дань моде (по типу: «в приличном профессиональном сообществе принято употреблять «компетенции»); искусственно внедряемое в педагогическое сообщество понятийное новообразование;они не вносят ничего нового в структуру дидактики, поскольку используют уже известные, давно наработанные, десятилетиями испытанные классические компоненты содержания образования – знания, умения, совокупность разнообразных навыков, способы репродуктивной и творческой деятельности, способности и т.д.. Иными словами, понятие компетентности не содержит каких-либо принципиально новых компонентов, не входящих в объем известных дидактических элементов, определяющих результаты образования, а поэтому все разговоры о компетентности представляются несколько искусственными, призванными скрыть либо просто завуалировать старые проблемы под новой терминологической одеждой.
Противоположная точка зрения представлена большинством ученых, которые считают, что компетенции значительно отличаются от традиционных знаний, умений и навыков (ЗУНов). Чем же? Приведем позиции некоторых ученых: они обладают системными и системообразующими функциями, связывающими личностные ориентиры студента с потребностями современного общества (А.В. Хуторской); они отражают результаты присвоения личностью всех тех ценностей, которые рождаются в процессе образовательной деятельности (Г.Г. Скоробогатова); это предметная область, о которой индивид хорошо осведомлен и в которой он проявляет готовность к выполнению деятельности (Ю.В. Фролов, Д.А. Махотин); это своеобразные «метаумения» (В.В. Гузеев), трансформирующиеся в «свойства личности» (Л.А. Петровская) и т.д.
Применение терминов «компетенция» и «компетентность» в данном подходе совершенно по-новому, с точки зрения разделяющих данный подход ученых, актуализирует проблему подготовки специалистов: они близки к описанию комплексных, сложных, интегративных умений, включая овладение методами и технологиями познания; они акцентируют внимание на практическом применении знаний, умений и навыков, овладении репродуктивными и творческими методами и технологиями самообразования, позволяющими специалистам использовать полученные знания в различных жизненных ситуациях, самостоятельно получать необходимые знания, грамотно с ними работать, видеть возникающие проблемы и находить правильное их решение.
Нельзя не согласиться с данной точкой зрения на раскрытие сущности компетенций. Но вот только никак не удается избавиться от вопроса: а что мешает рассматривать злополучные ЗУНы именно в практи- коприменительном аспекте, как элементы практического опыта? Другими словами, как можно вести речь о формировании умений и навыков, не предполагая, что выпускники вуза должны овладевать ими в практической деятельности, демонстрировать их в личном опыте?
Проблемным моментом для думающих педагогов является попытка развести компетенции на так называемый компетентностный триумвират: знать, уметь, владеть. Чем, к примеру, «уметь» отличается от «владеть»?
Так, Малый академический словарь следующим образом определяет содержательно-смысловую основу понятия «владеть»: «…3. Уметь обращаться с чем-л., искусно действовать чем-либо… В сочетании с некоторыми именами существительными значит: хорошо знать, уметь пользоваться, быть мастером в какой-либо области (Владеть стихом. Владеть рифмой. Владеть диалогом.)» [7]. В Толковом словаре Ефремовой «владеть» в одном из значений также определяется как «3) а) Умело обращаться с чем-л.; б) Хорошо знать, умело пользоваться чем-л.; ... 4) Обладать способностью, быть в состоянии управлять движениями тела или частей тела...» [7]. Ему вторит и Толковый словарь Ожегова: «Владеть: … 3. Уметь , иметь возможность пользоваться чем-н., действовать при помощи чего-н.»(выделено нами – С.Б и Л.С.).
Все вышесказанное позволяет утверждать, что попытки отделить умение что-то делать от владения этим чем-то, по сути, не более чем словоизмышление.
А вот как, в свою очередь, определяется термин «уметь».
В Толковом словаре Ожегова [11] под словом «уметь» понимается: «1. Обладать навыком , полученными знаниями , быть обученным чему-н. …; 2. Обладать способностью делать что-н.». Толковый словарь Ушакова «уметь» определяет как «Обладать умением чего-н., благодаря знаниям или навыку к чему-н. иметь возможность сделать что-н., быть в состоянии что-н. сделать». Такой же интерпретационный подход и в Толковом словаре Ефремовой: «Уметь – обладать умением делать что-л. благодаря знаниям или навыкам к чему-л.» (выделено нами – С.Б и Л.С.).
То есть мы видим, что в реальном языке умение определяется через обладание знаниями и навыком к чему-либо и способностью это делать. И как же преподавателю, в соответствии с вышесказанным, грамотно разграничить умения и владения?
Обозначим и еще один упоминаемый приверженцами компетентностного подхода параметр, принципиально с их точки зрения отличающий компетентности от ЗУНов – их интегративный характер. Например, как пишет В.И. Байденко, один из разработчиков компетентностной основы к проектированию государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования, ведущей особенностью, отличающей компетентность от традиционных понятий – знания, умения, навыки, опыт – это ее интегративный характер, практико-ориентированная направленность, а также соотнесенность с ценностно-смысловыми характеристиками личности [1]. Но заметим, что знания, умения и навыки не существуют у человека рядоположенно. В основе любого умения и навыка всегда лежат как знания, так и способности. И можно было бы об этом не говорить, но ведь во всех образовательных стандартах так или иначе определение каждой компетенции начинается со слов «способность», «умение», «готовность», «знание». Но почему в одном случае это способность, а в другом – готовность, а в третьем – умение? Любой грамотный педагог или психолог знает, что в основе готовности лежат и способности, и умения, и знания. Таким образом, под компетенцией понимается приобретаемое в результате образовательного процесса какое-то интегративное личностное качество, которое мы по-прежнему определяем через другие, привычные для носителя русского языка понятия – все те же ЗУНы.
Противопоставление компетенций и ЗУНов неминуемо ведет к крайне непродуктивному и, по сути, к бесполезному спору, ненужной конфронтации как ученых, так и практиков. Думается, все дело в содержании смыслов, которые мы вкладываем (хотим вкладывать) в термины «знания», «умения», «навыки». Это-то как раз чаще всего и упускается из вида, когда утверждается, что нам нужны не знания, умения и навыки, а именно компетенции.
Приведем в этом плане разъяснения Б.Д. Эль-конина, которые он дает, размышляя о том, что должно пониматься под знаниями в деятельностном подходе. В частности, он пишет: «Мы отказались не от знания как культурного «предмета», а от определенной формы знаний (знания «на всякий случай», то есть сведения). Что такое знание в нашем подходе? Что такое понятие? 1) Знание – это не сведения. 2) Знание – средство преобразования ситуации. 3) Если знание – средство мысленного преобразования ситуации, тогда это понятие. Мы пытаемся строить понятия так, чтобы они стали средствами преобразования ситуаций действия» [15, с. 27].
То есть один из авторов деятельностного и личностно ориентированного подходов в образовании выступает не против знания как такового, а против абсолютизации в процессе обучения одной из его форм – знания «на всякий случай». Живое, деятельностное, интериоризированное знание противопоставляется им фоновому, бессубъектному, отчужденному, представленному в виде простой информации из разряда «для сведения».
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
-
- налицо в профессиональном образовании смешение двух подходов – компетеноностного и зна-ниевого, причем первому придается несообразно большое и доминирующее значение;
-
- ориентация на компетенции в реальной образовательной практике зачастую носит формальный характер;
-
- компетентность/компетенция – системная категория, но не противостоящая ЗУНам, а развивающая их за счет сведения на их платформе и более детализированного обозначения множества субъектных и личностных надстроек, в итоге позволяющая интерпретировать результат образования в совокупности когнитивных («знать, что и как делать»), опе-
- рационально-технологических («уметь, как делать, и обладать способностями это делать»), мотивационноценностных («хотеть, четко осознавая – зачем, с какой целью и ради чего делать»), социальных («понимать, для кого делать, учитывая общую социальную значимость этого, и какие могут быть последствия и социальные риски того, что ты это делаешь»), поведенческих (демонстрировать этические качества в процессе того, как что-то делаешь) и других составляющих.
И весь вопрос не в том, как мы будем называть результаты образования – ЗУНами или компетентностями, а как организовать и осуществить образовательный процесс, чтобы эти результаты получить в наиболее полном виде.
Список литературы Методологическая оценка компетентностного подхода в подготовке специалиста
- Байденко В.И. Компетентностный подход к проектированию государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (методологические и методические вопросы): методическое пособие, изд. 5-е. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2005.
- Бобрышов С.В. К вопросу о построении системы гражданского образования и воспитания // Философия образования. - 2007. - № 3.
- Бобрышов С.В. Взаимосвязь теоретической и практической подготовки студентов к работе с детскими общественными объединениями: автореф. дис… канд. пед. наук. - СПб., 1992. - 24 с.
- Бобрышов С.В., Саенко Л.А., Суменко Л.В. Персонификация ценностей свободы и достоинства личности в современных социально-педагогических процессах // Вестник Академии права и управления. - 2016. - № 42.
- Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // Педагогика. - 2003. - № 10.