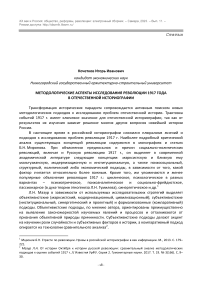МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Автор: Кочетков Игорь Иванович
Журнал: ХХ век и Россия: общество, реформы, революции @sbornik-libsmr
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 11, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются подходы к изучению Революции 1917 г. в отечественных исследованиях. Даётся критический обзор наиболее значимых концепций: марксистской, цивилизационной, модернизационной и институциональной. Делается вывод о необходимости синтеза различных походов для более глубокого и всестороннего изучения революционных событий в России в 1917 г.
Великая Российская революция 1917 г., российская историография, историография революции 1917 г., методологический подход в историографии
Короткий адрес: https://sciup.org/140300794
IDR: 140300794 | DOI: 10.34830/SOUNB.2023.81.96.001
Текст научной статьи МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Трансформация исторических парадигм сопровождается активным поиском новых методологических подходов к исследованию проблем отечественной истории. Трактовка событий 1917 г. имеет ключевое значение для отечественной историографии, так как от результатов их изучения зависит решение многих других вопросов новейшей истории России.
В настоящее время в российской историографии сложился плюрализм мнений и подходов к исследованию проблем революции 1917 г. Наиболее подробный критический анализ существующих концепций революции содержится в монографиях и статьях Б.Н. Миронова. При объяснении предпосылок и причин социально-политических революций, включая и Русскую революцию 1917 г., он выделяет в современной академической литературе следующие концепции: марксистскую и близкую ему мальтузианскую, модернизационную и институциональную, а также психосоциальный, структурный, политический либо экономический подходы, в зависимости от того, какой фактор считается относительно более важным. Кроме того, им упоминаются и менее популярные объяснения революции 1917 г.: циклическое, психологическое в разных вариантах – психиатрическое, психоаналитическое и социально-фрейдистское, пассионарное (в духе теории этногенеза Л.Н. Гумилева), синергетическое и др.1
Л.Н. Мазур в зависимости от используемых исследовательских стратегий выделяет объективистские (марксистский, модернизационный, цивилизационный); субъективистские (институциональный, синергетический и проектный) и формализованные (компаративный) подходы. Объективистские подходы, по мнению автора, ориентированы преимущественно на выявление закономерностей изучаемых явлений и процессов и отталкиваются от признания объективной природы причинности. Субъективистские подходы делают акцент на изучении роли случайности и субъективных факторов в истории, а компаративный подход опирается на технологии сравнительного анализа2.
Статьи
Зарубежные историки предлагают свои классификации теории революции 1917 г. Так, американский историк Дж. Биллингтон насчитал шесть точек зрения на Российскую революцию. Другой американец М. Малия сводит различные интерпретации Русской революции в три модели – либеральную (основные представители П.Н. Милюков, X. Ситон-Уатсон, Л. Шапиро и М. Флоринский), консервативную, или циклическую (основные представители К. Бринтон и Н. Тимашев), и марксистскую3.
Нельзя не согласиться с мнением Б.Н. Миронова о том, что классификация подходов и концепций всегда субъективна, так как зависит от критерия, положенного в ее основу, а критерий – от методологических пристрастий автора. Но при всей своей условности она помогает систематизировать точки зрения и тем самым облегчает анализ историографии4.
Вместе с тем такое разнообразие подходов к изучению событий 1917 г., с одной стороны, существенно расширяет круг исследуемых проблем, но, с другой стороны, свидетельствует об отсутствии синтетических теорий, позволяющих взаимоувязывать различные точки зрения историков. Нам представляется, что многочисленные концепции, часто пересекаясь между собой и включая в себя положения других теорий, в зависимости от особенностей используемых методологических подходов могут быть сведены к нескольким основным: марксистской, цивилизационной, модернизационной и институциональной.
В основе марксистской концепции лежит формационный подход, признающий определяющую роль социально-экономических факторов в исторических процессах. Этот подход занимал господствующее положение в советской исторической науке и имеет многочисленных сторонников до настоящего времени. Основные положения марксисткой историографии, касающиеся событий 1917 г., представлены в трехтомном исследовании И.И. Минца «История Великого Октября», а подробный обзор работ дан в 5 томе «Очерков истории исторической науки в СССР»5.
Согласно этой концепции, главная и единственная предпосылка, или глубинная причина, российских революций начала ХХ в. состояла в конфликте между растущими производительными силами и сложившейся системой социальных отношений и учреждений. Обострение на этой объективной почве экономических, политических и иных противоречий, особенно же классовой борьбы между эксплуататорами и эксплуатируемыми, и привело к революции.
К основным недостаткам марксистской теории революции обычно относят ее идеологизированный и упрощенный характер. Кроме того, как показывают исследования современных историков, русская революция 1917 г. не имела объективных предпосылок в марксистском смысле. Экономика России по темпам роста в 1880–1913 гг. занимала одно из первых мест в мире, из великих держав уступая только США. По мнению Б.Н. Миронова,
Статьи
обнищание народа ни до, ни после отмены крепостного права не наблюдалось, а уровень жизни широких народных масс в 1795–1915 гг. медленно, но верно повышался. На основании этого автор делает вывод, что имущественное неравенство в пореформенное время было умеренным и что тем самым основной постулат марксистской теории о решающей роли социально-экономических факторов в революции 1917 г. «не подтверждается эмпирически»6.
Но марксистская методология, несомненно, обладает значительным научным потенциалом. Не случайно, что исследования западных историков-марксистов до сих пор высоко ценятся в мировой историографии. Например, в ней представлена влиятельная группа британских историков-марксистов (В. Киернан, Г. Рюде, Д. Савилье, Р. Самьюэльсен, Д. Томпсон, Е.П. Томпсон, Р. Харссион, К. Хилл, Р. Хилтон, Э. Хобсбаум). Те или иные марксистские идеи были усвоены практически всеми концепциями, в том числе модернизационной, мир-системной, синергетической, постмодернистской, институциональной7.
В 1990-е гг. критическое осмысление событий начала XX в. заставило российских историков обратиться к зарубежной историографии и заимствовать зарубежные методологические подходы, что позволило существенно расширить проблематику революции 1917 г. В это время приобретает популярность цивилизационная теория, которая в дальнейшем была положена в основу учебного школьного курса и во многом формировала коллективное историческое сознание российского общества. Используя цивилизационный подход, отечественные авторы (А.С. Ахиезер, В.В. Ильин, И.И. Попов, Б.Г. Капустин, А.С. Панарин и др.) стали активно подчеркивать «русский» характер революционных событий и его обусловленность социально-культурной спецификой российского общества.
Понимание революционных событий в России как уникального исторического опыта, определяемого цивилизационными особенностями России, было широко также представлено в работах зарубежных историков – Э. Карра, Н. Верта, Дж. Боффа и других зарубежных исследователей, многие из которых были переведены в России8.
При этом выявилась ограниченность цивилизационного подхода, связанная с отсутствием консенсуса по принципиальным вопросам – что такое цивилизации, каковы критерии их идентификации, каковы их пространственные границы и число. Цивилизационные построения часто носят спекулятивный и неопределенный характер, и по большей части основываются на догадках, предположениях, а нередко и прямых домыслах.
Кроме того, попытки применения цивилизационного подхода к истории России столкнулись с трудностями, связанными с отнесением ее к определенному типу цивилизации. В зависимости от признания западного, восточного или евразийского типа цивилизации ученые давали соответствующую оценку событиям 1917 г. Например, с точки зрения сторонников прозападного подхода «Россия с самого начала своего развития была
Статьи
неотъемлемой частью западной цивилизации и лишь приход к власти большевиков свернул ее с магистрального пути»9.
В начале 2000-х гг. одним из самых популярных методологических подходов в отечественной науке при изучении проблем Революции 1917 г. становится модернизационный. В нем выделяются две парадигмы: «от механической к органической солидарности» и «от традиции к модерну». В соответствии с первой, результаты и сам процесс социальной трансформации России в период империи укладываются в схему одного из прародителей концепции модернизации Э. Дюркгейма о трансформации механической солидарности в органическую по мере индустриализации и урбанизации общества.
Согласно второй парадигме, которую активно разрабатывает в своих работах Б.Н. Миронов, российское общество в XVIII – начале XX в. развивалось от традиции к модерну, но к 1917 г. по причине незавершенности модернизации не соответствовало в полной мере ни одному из критериев современного общества. В этой связи делается вывод, что революции начала ХХ века были обусловлены не столько социально-экономическими, сколько политическими факторами. Б.Н. Миронов полагает, что их организовала либеральная и радикальная интеллигенция, а народ был вовлечен ею в революционные действия умелой пропагандой по той причине, что без его поддержки общественность не имела сил свергнуть монархию10.
Некоторые историки отмечают сходство позиций модернизационного и цивилизационного подходов при исследовании проблем революции 1917 г., что во многом связано с тем, что работы, написанные с использованием модернизационного и цивилизационного подходов, в большей степени испытали влияние, с одной стороны, марксистской историографии, с другой – зарубежной литературы и предложенных в ней концептуальных схем11.
Общей чертой этих концепций является восприятие событий 1917 г. как единого революционного демократического процесса, разбитого на ряд этапов. Но при этом между ними существует и значительное отличие, связанное с определением хронологических рамок событий Революции 1917 г. Оно в свою очередь связано с признанием революции как ограниченного во времени события (цивилизационный подход) или как процесса (модернизационный подход).
В работах историков, написанных в русле цивилизационного подхода, хронологические рамки революции более узкие и ограничены, как правило, событиями 1917 – начала 1918 г. (февраль 1917 г. – 5–6 января 1918 г.). Либо верхняя хронологическая рамка отодвигается к 1922 г. – окончанию Гражданской войны.
Историки, интерпретирующие историю России в категориях модернизации (процессного подхода), расширяют хронологические рамки рассматриваемых явлений. Например, Б.Н. Миронов придерживается взгляда на Русскую революцию как на процесс,
Статьи
начало которому положила Первая мировая война (1914 г.) и завершение которого связано с переломом в ходе Гражданской войны (1920 г.)12.
Нельзя не согласиться с критическими замечаниями исследователей о том, что модернизационная парадигма предлагает слишком упрощенную интерпретационную модель. Относясь к категории прогрессистских концепций, она несет на себе печать «телеологизма», восходящего еще к гегельянству, предполагающему, что исторический процесс имеет некую фатально реализуемую цель. Отсюда и модернистское, в какой-то степени «предопределенное», восхождение от менее совершенных к более совершенным «стадиям» развития, и, соответственно, закономерная обусловленность революционных событий.
Кроме того, критики теории модернизации отмечают, что проводимая в форме вестернизации «сверху» модернизация насильно разрушала традиционализм внизу, оказалась чужда большинству народа, его менталитету, что и породило сложнейшие противоречия и вызвало – за кратчайший срок – две революции: 1905–1907 гг. и 1917 г. Эти революции показали несостоятельность осуществлявшейся модели модернизации – по западному образцу, чуждому доминировавшему в обществе российскому традиционализму13.
Свой вклад в понимание внутренних механизмов революционных событий 1917 г. вносит институциональный подход, согласно которому в основе социальных сдвигов лежат изменения общественных институтов — законов, правил, норм, а также традиций, верований и т. п. Институциональная концепция революции была выдвинута в монографии В.А. Мау и И.В. Стародубровской14. По мнению этих авторов, революция 1917 г. по своим основным характеристикам не имеет принципиальных отличий от европейских революций более раннего времени. Вследствие большого значения экономического фактора в ее происхождении революция является экономико-политическим, а не чисто политическим процессом.
Причины революции 1917 г. связываются сторонниками институционального подхода с бурным экономическим ростом и всесторонней модернизацией российского социума, которые создали высокий градус социальной напряженности в обществе и ввели страну в зону риска. В.А. Мау и И.В. Стародубровская подчеркивают, что «революции не характерны для стабильного общества, в котором отсутствуют динамичные изменения. Они неразрывно связаны с феноменом экономического роста. Причем предпосылки революций могут сформироваться не в любой момент, а лишь на особых переломных этапах», названных ими «кризисами экономического роста»15.
Таким образом, в отличие от модернизационного, институциональный подход признает большое значение экономического фактора в происхождении революции, считая
Статьи
ее экономико-политическим, а не чисто политическим процессом, что сближает институциональную концепцию с марксисткой теорией.
Вместе с тем институциональная концепция революции отвергает марксистскую концепцию истории с ее неизбежными межклассовыми войнами и революциями как локомотивами истории, делая акцент на автономности государства и государственной бюрократии в противовес взглядам К. Маркса. Кроме того, революция признается одним из возможных, но не самым главным способом решения социально-экономических проблем. Если в институциональной концепции капиталистическое общество рассматривается как достаточно устойчивое, способное к саморазвитию, то в марксистской – как социально нестабильное, чреватое революцией и в принципе не способное к радикальным реформам.
Наличие многочисленных методологических подходов, которые пересекаются между собой и имеют взаимное влияние друг на друга, свидетельствует о наличии перспектив в исследовании проблем Революции 1917 г. Критический разбор основных методологических подходов показывает настоятельную необходимость формирования и использования новых синтетических подходов к исследованию исторических процессов. На место «методологической революции», начавшейся в 1990-е гг. и сводившейся к замене одной универсальной теории (марксизма) на другую, не менее универсальную, теорию, в настоящее время приходит активный поиск принципиально новых теоретикометодологических подходов в исторической науке. Как справедливо отмечал председатель научного совета РАН «История революций в России» С.В. Тютюкин в предисловии к сборнику материалов научной конференции «1917 год в судьбах России и мира: Октябрьская революция», произошло разрушение советских схем, но новой целостной концепции событий 1917 г. еще не создано16.
Нам представляется плодотворным подход историков, которые считают необходимым отказаться от использования крайних теоретико-методологических точек зрения при изучении проблем истории Революции 1917 г. и выступают за синтезирование всего лучшего, что было создано отечественной и мировой исторической наукой. Нельзя не согласиться с мнением И.Д. Ковальченко, который предлагал в качестве способа выхода из кризиса «напрочь исключить какие бы то ни было претензии на возможность создания неких универсальных и абсолютных теорий и методов исторического познания»17. Это позволит значительно расширить проблематику исследований событий 1917 г. Комплексная, синергетическая парадигма имеет все шансы выступить в качестве интеграционной площадки авторских концепций, включая в себя достижения различных методологических подходов, используемых в отечественной и зарубежной исторической науке.
Список литературы МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
- Боффа Дж. История Советского Союза: в 2 т. 2-е изд. М.,1994.
- Верт Н. История советского государства. 1900–1991. 2-е изд. М., 1998.
- Историография истории России / Под ред. А.А. Чернобаева. 2-ое изд. М., 2014.
- Карр Э.Х. История Советской России: в 14 т. Кн. 1. Т. 1–2: Большевистская революция 1917–1923. М., 1990.
- Мазур Л.Н. От истории Октября к истории русской революции: сравнительный анализ методологических подходов к оценке событий 1917 г. // Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2017. Т. 19. № 3(166). С. 9–30.
- Минц И.И. История Великого Октября [Текст]: В 3 т. М., 1967-1973. Очерки истории исторической науки в СССР / АН СССР, Научный совет по проблеме История исторической науки, Ин-т истории СССР; под ред. М.В. Нечкиной (гл. ред.) и др. [Т.] 5. М., 1985.
- Миронов Б.Н. Причины русских революций. Парадигма модернизации // Родина. 2009. № 12. С. 92–97.
- Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 3. СПб., 2015.
- Миронов Б.Н. Русская революция 1917 года в контексте теорий революции // Общественные науки и современность. 2013. № 2. С. 72–84.
- Миронов Б.Н. Русская революция 1917 года как побочный продукт модернизации // Социологические исследования. 2013. № 10(354). С. 29–39.
- Миронов Б.Н. Страсти по революции. Нравы в российской историографии в век информации. М., 2013.
- Сенявский А.С. Великая русская революция 1917 года в контексте истории XX века // Проблемы отечественной истории: Источники, историография, исследования. Сборник научных статей / Редкол.: М.Н. Барышников, А.В. Голубев и др.; отв. ред. М.В. Друзин. СПб., К., Мн., 2008. С. 498–518.
- Стародубровская И.В., Мау В.А. Великие революции: От Кромвеля до Путина. 2-е изд., доп. М., 2004.
- Тютюкин С.В. Вместо предисловия // 1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: от новых источников к новому осмыслению. М., 1998. С. 5.
- Billington J.Н. Six Views of the Russian Revolution // World Politics. 1966. Vol. 18. № 3. P. 452–473.
- Cherkasov A.A. Essays on Historical Optimism // Bylye Gody. 2016. Vol. 41-1. Is. 3-1. P. 1058.