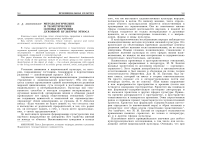Методологические и теоретические основы изучения духовной культуры этноса
Автор: Миничкин Павел Дмитриевич
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Провинциальная культура
Статья в выпуске: 3 (88), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются методологические и теоретические основы изучения духовной культуры этноса в контексте определения предмета исследования - явлений культуры с учетом жизненной среды этноса: природной, социальной и геополитической.
Культура, этнос, этнокультура, природная и социальная среда, средовая культура, культурология, хронотопы
Короткий адрес: https://sciup.org/147222694
IDR: 147222694
Текст научной статьи Методологические и теоретические основы изучения духовной культуры этноса
В статье анализируются методологические и теоретические основы изучения духовной культуры этноса в контексте определения предмета исследования — явлений культуры с учетом жизненной среды этноса: природной, социальной и геополитической.
The paper discusses the methodological and theoretical fundamentals of the study of the spiritual culture of an ethnic group in the context of identification of the object of study — the cultural phenomena with regard to the living environment of an ethnic group: natural, social, and geopolitical.
Усиление внимания к национальной культуре, ее истории, современному состоянию, тенденциям и перспективам развития — закономерный процесс XXI в.
Адекватно тенденции интернационализации усиливается стремление к «национальному ренессансу». Оба эти процесса служат проявлением единой закономерности развития мировой цивилизации, суть которой в постоянном диалоге национального и интернационального. Культура как совокупность способов и методов создания материальных и духовных ценностей, организации жизни и общения людей пронизывает все сферы общественных отношений. Система созданных ценностей и технологий их «производства» определяет облик цивилизации, ее уровень. Д. С. Лихачев писал: «Если человек не будет ценить то, что осталось ему в наследство от родителей, прародителей, и тех, кто родил их, он потеряет память о себе, о своем месте происхождения, о своем предназначении»1.
До настоящего времени формирование культурологии как научного направления не завершено. Нет единства мнений по поводу ее объекта. Высказываются суждения в пользу
МИНИЧКИН Павел Дмитриевич, аспирант кафедры дизайна и рекламы Мордовского государственного университета.
того, что им выступает художественная культура народов, человечества в целом. По нашему мнению, такое определение объекта культурологии является искусственным и чрезмерным его ограничением. Оно не охватывает многие сферы созидательной деятельности народов, в каждой из которых создаются не только материальные и духовные ценности, но и соответствующие технологии, т. е. направления, формы и виды культуры.
В культурологических исследованиях нередко наблюдается взаимодополнение методов изучения явлений культуры. Это происходит по объективным причинам: различные аспекты развития любого явления тесно взаимосвязаны, но не всегда синхронны. Иными словами, возникновение, становление и развитие явлений культуры во всех сферах жизни взаимосвязаны, но каждое из них исторически и содержательно относительно самостоятельно, автономно.
Взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно оформленных в литературе, М. М. Бахтин называл хронотопом (в дословном переводе — «времяпро-странство»). Этот термин употребляется в математическом естествознании и был введен и обоснован на почве теории относительности Эйнштейна. Для М. М. Бахтина был важен смысл, который он имеет в теории относительности. Он просто перенес его в литературоведение почти как метафору (почти, но не совсем): «Нам важно выражение в нем неразрывности пространства и времени (почти как четвертое измерение пространства). Хронотоп мы понимаем как формально-содержательную категорию литературы и не касаемся хронотопа в других сферах культуры. Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем. Этим пересечением рядов и слиянием примет характеризуется художественный хронотоп. Хронотоп как формально содержательная категория определяет (в значительной мере) и образ человека в литературе: этот образ всегда существенно хронотипичен»2. Это означает, что М. М. Бахтин не отрицает возможности применения понятия «хронотоп» не только к литературе, но и к другим сферам культуры.
Изложенное имеет принципиальное значение для любого культурологического исследования, в том числе для исследования любой национальной культуры. Очевидно, что при организации исследования национальной культуры недостаточно руководствоваться только общими принципами методологии и теории. Для этого важны и «частные» методики. Особое внимание, на наш взгляд, следует сосредоточить на поиске специфики этнокультуры конкретного народа.
В системе материальной и духовной культуры у всех народов мира много общего, того, что отражает и выражает общие закономерности цивилизованной деятельности человечества. Однако каждый этнос — это особая составляющая человечества, которая выбирает свой путь, способы и приемы созидательной деятельности и творчества, создает свою систему технологий познания, созидания и сохранения материальных и духовных ценностей. Достигается это путем выбора приоритета для тех или иных технологий, способов, методов.
Важный аспект методологии культурологических исследований связан с раскрытием причин, «истоков», порождающих своеобразие системы культуры конкретного этноса. «Ничто так полно не отражает историю уникального мира наших предков, эволюцию духовной и материальной культуры (мыслей, чувств, традиций, опыта и пр.) любого этноса, как мифология. Поэтому в настоящее время интерес к ней как к культурологическому явлению отдаленного прошлого заметно возрос, получив новый импульс для развития... Замечено, что утрата нацией собственной исторической памяти, хранящейся в национальной мифологии, автоматически ведет к потере представлений о своих истоках, родословной, т. е. об истории Великой Семьи. Народ уподобляется ребенку, ищущему в толпе своих мать и отца, лица которых он никогда не видел»3. Поэтому особенности культуры народа являются важнейшим этнодифференцирующим признаком. Подобные признаки не могут быть присущи народу изначально (т. е. генетически) и навеки. Они возникают в какой-то период жизни этноса, развиваются вместе с ним и могут быть утрачены.
По нашему мнению, большое значение в поиске своеобразия системы культуры конкретного этноса имеет анализ жизненной среды этноса: природной, социальной, геополитической.
Единство природной среды и человеческого рода, его этнических видов достаточно глубоко раскрыто в мировой и отечественной науке (Ю. В. Бромлей, Л. Н. Гумилев, С. М. Широкогоров, А. Й. Элез и др.). Однако культурологическая взаимосвязь природы и этноса остается малоисследованной. Это справедливо применительно к большинству этносов, каждый из которых, наряду с общими принципами и закономерностями, формирует свою оригинальную систему взаимосвязи с природой, особый набор технологий для ее преобразования во имя удовлетворения своих потребностей, т. е. для жизни. Приспосабливаясь к природе, преобразуя ее ресурсы в продукты и предметы потребления, народ вырабатывает собственную не только материальную, но и духовную этнокультуру.
Одним из способов систематизации этносов является, по мнению С. М. Широкогорова, этнографическая классификация. Он предлагает различить два метода. Это, «во-первых, классификация по культурным циклам, объединяющим этносы единою культурою, в разной или одинаковой мере воспринятой ими, во-вторых, классификация по степени культурности»4. Он вводит понятие «культура этноса». «Культура этноса слагается из явлений и элементов, имеющих по времени различное происхождение и значение, причем некоторые из них уже мертвы, другие умирают, третьи находятся в состоянии расцвета и четвертые только что народились... Культура каждого этноса или группы этносов состоит из сложного комплекса технических знаний, общественных институтов, суммы знаний научных и эстетических и религии»5.
Определяя объект этнографии, С. М. Широкогоров считает, что «имея объектом наблюдения этнос, этнография изучает все проявления умственной и психической деятельности человека», т. е. его материальную, социальную и духовную культуру6. В. Р. Филиппов, рассматривая теорию этноса С. М. Широкогорова, обращает внимание на то, что «этнографическая классификация» на самом деле представляет собой попытку культурной классификации. По его мнению, этнос и культура — отнюдь не одно и то же. Этничность (этнографичность) культуры не представляется бесспорной. Он акцентирует внимание на культуре человека, а не этноса7.
Со-циалъная среда жизни этноса, формируясь по общим законам каждого этапа развития цивилизации, отличается своей оригинальной системой, особенной структурой. «Способ бытия социальной формы деятельности, механизм ее осуществления как общественного отношения в материальном мире и есть культура. Поэтому углубление содержательного и деятельностного единства человека и природы на основе развития человека как субъекта социальной деятельности и социального творчества выдвигается в качестве критерия культурной динамики. Историческое развитие человечества (при любых возможных подразделениях его на отдельные периоды) идет по линии все большего освобождения людей от их изначальной зависимости от природы и их вовлеченности в такую социальную связь, которая опосредуется результатами совокупного человеческого труда, т. е. культуры»8.
Д. С. Лихачев писал, что культура — это огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих определенное пространство, из просто населения народом, нацией. В понятие культуры должны входить и всегда входили религия, наука, образование, нравственные и моральные нормы поведения людей и государства9. Логично в связи с этим ввести в исследовательский процесс понятие средовой культуры, подразумевающей проявления специфики социальной этнокультуры во всех сферах общественных отношений: экономических, бытовых, демографических, классовых, политических, духовных и т. п. Взаимосвязь этих сфер и видов отношений также отличается оригинальностью у каждого народа.
В частности, С. Г. Кнабе рассматривает повседневную культуру как элемент средовой культуры. Он обращает внимание на предметы бытового обихода, эстетику костюма, общение с искусством, жизненную среду: «Жизненная среда в не меньшей мере, чем само по себе художественное произведение, становится постепенно реальной формой существования искусства... В XX в. вообще и в послевоенные десятилетия в частности произведение, при сохранении им, разумеется, всей его традиционной роли, все чаще утрачивает автономию и либо само начинает жить как сгусток окружающей жизненной среды, либо раскрывается ей навстречу и впускает ее в себя, делает своим элементом. Процесс этот представлен особенно ясно, например, в столь популярной сегодня средовой архитектуре. Если на протяжении веков архитектор видел смысл своей деятельности в создании прекрасного сооружения, то ныне главная задача все чаще усматривается в создании не до конца организованной, текучей и изменчивой материально-пространственной среды обитания (или, точнее, пребывания), призванной породить не столько эстетическое наслаждение как таковое, сколько чувство удовлетворения от свободного и естественного включения человека в жизнь и историю. Отдельное произведение архитектурного искусства если и воспринимается, то оценивается не по соответствию канону, а по органичности включения — но не в ансамбль, а в жизненную среду»10.
Геополитическая среда расселения и характер взаимодействия этноса с ближним и дальним зарубежьем оказывают на его облик существенное влияние. Такое взаимодействие на разных этапах развития этноса меняется, но это постоянный диалог культур (правда, не всегда мирный), средство включения в региональную и планетарную культуру человечества. Методология познания сущности и закономерностей диалога культур народов, его значения в их цивилизованном развитии глубоко раскрыта М. М. Бахтиным. Но он не дал определения феномена «культура». Он неоднократно подчеркивал, что не следует спорить о словах, главное, схватить сущность явления, события. Как отмечает М. С. Глазман, под культурой мыслитель понимал всеобщую категорию, возникающую «не в результате формального обобщения различных явлений, а как выявление всеобщности особенного»11. В. С. Библер подчеркивает, что «Бахтин исходит из историко-культурных, культурологических и философских штудий и концепций, которые были развиты в 20-м веке», что важнейшим фактором культуры для него выступает форма общения людей, «благодаря чему и возможно сближение культур при одновременном их различении»12. Именно в контексте культуры индивиды могут общаться, невзирая на национальности, возраст, социальное положение.
Бахтинское понимание культуры в аспекте диалога, по В. С. Библеру, есть «диалог не только неоднозначных подходов, мнений, но и различных культурных исторических слоев, как бесконечное развертывание и формирование все новых смыслов каждого — вступающего в диалог — феномена культуры, образа культуры, произведения культуры»13. Ни одно явление культуры не рождается на песке, своим основанием оно уходит в далекое прошлое, и только в таком случае его значение будет непреходящим, поскольку «все, что принадлежит только к настоящему, умирает вместе с ним»14. М. М. Бахтин отмечает, что, обращаясь к прошлым пластам культуры, мы тем самым хотим воскресить из небытия идеи, смыслы, образы, могущие выполнить роль «ариадниной нити» в лабиринте современных проблем, сомнительных чаяний. «Смысловые явления, — утверждает он, — могут существовать в скрытом виде, потенциально и раскрываться только в благоприятных для этого раскрытия смысловых культурных контекстах последующих эпох»15.
Р. И. Александрова выделяет четыре аспекта методологии М. М. Бахтина применительно к культуре. Во-первых, философ призывает «диалектически понять единство многообразия в сфере культуры. И не только понять, но обеспечить это общечеловеческое единство. Такая задача поставлена самой историей человечества, в особенности современной эпохой, которую справедливо называют эпохой глобальных проблем. Анализ этих проблем требует в свою очередь ответа на следующие вопросы: есть ли общие черты между культурами, отдаленными друг от друга тысячелетиями; и существует ли некое основополагающее начало у культур разных народов в одну и ту же эпоху и в то же время отличие их вследствие различных политических, идеологических структур, природных условий, уровня развития цивилизации и т. д.?»16. Во-вторых, все сферы культуры получают свою значимость, единство только в соприкосновении с Человеком, Личностью. Культура не может существовать вне личности. Она призвана гармонизировать сферу отношений человека и социума, человека и космоса, взятых безотносительно ко времени и пространству. В-третьих, личностный аспект проблемы духовной культуры требует анализа отдельных ее сторон: негативных явлений в сфере духовного состояния личности, таких как «болезнь» языка, разрыв между образованием и подлинной образованностью, культурностью, негативное отношение к культуре прошлого, других народов; положения науки, образования, искусства в условиях рынка, многопартийности, деидеологизации; возможного возрождения общечеловеческой культуры, определения ее критериев и путей; роли религии в жизни современного человека, возможности духовного возрождения личности только на путях религиозного сознания. В-четвертых, аспект, связанный с развитием феномена культуры в творчестве Бахтина, пред- полагает взаимодействие мира культуры с миром бытия, жизнью общества. Они могут не совпадать друг с другом из-за ряда обстоятельств.
Вывод, к которому приходит Р. И. Александрова, заключается в том, что идея непрерывности культурноисторического процесса, высказанная Бахтиным, актуальна в современных условиях в теоретическом и практическом отношениях. «В ней сделан акцент на укорененность культурной современности в культурной истории»17.
Особую методологическую сложность имеет анализ истории развития культуры народа. Главная трудность при этом — раскрытие диалектики поступательной взаимосвязи традиционного и нового в культуре этноса. Разумеется, изучение истории культуры народов — дело вовсе не новое. Наука накопила в этом отношении огромный опыт. Но было бы преувеличением считать, что у современных историков культуры нет методологических проблем, без решения которых невозможно обеспечить высокий уровень исследований. На наш взгляд, дискуссии вокруг точки зрения Гумилева на возникновение и развитие этносов18 дают основание считать, что современная историческая наука еще не выработала общепризнанной методологии определения критериев «рождения» и «продолжительности жизни» этноса и его культуры. Одним из вариантов такой системы критериев, по нашему мнению, можно считать критерии «самоопределения» сообщества людей по отношению к природной среде обитания и по отношению к другим сообществам людей. Самоопределение сообщества людей в этнос предполагает обретение коллективной способности к «самовыражению» в относительно локальной среде обитания.
Поиск «природного» и «социального» в этносе, их диалектической связи позволит ответить на вопрос «Что обеспечивает долговечность в традициях: природное или социальное?». Вяч. И. Иванов полагает, что человек — часть природы и рожден природой. Но социализация человека происходит в системе социальных отношений. Этнос представляет собой сообщество людей. Поэтому в этнос органично и диалектически включены и природные, и социальные элементы19. Важным критерием «рождения этноса» является его длительная устойчивость к внешним воздействиям. Каждый этап развития этноса в области культуры знаменуется
«сменой поколений». Механизм смены действует на стыке традиционного и нового. Традиционная культура, составляя стержень технологической структуры цивилизационного развития этноса, обеспечивает ему преемственность. Вместе с тем, систематически обновляясь, она укрепляет свои позиции. По нашему глубокому убеждению, уровень традиционного измеряется не столько временем функционирования, сколько своеобразием, выражающим существо той или иной этнокультуры.
Таким образом, методология изучения этнокультуры представляет собой сложную систему, главный смысл которой состоит в том, чтобы, используя совокупность принципов и методов, предельно объективно отразить специфику культуры этноса в ее историческом развитии.
Список литературы Методологические и теоретические основы изучения духовной культуры этноса
- URL: http://geiitleliood.ru/lieroes/dmitriy-liliachev (дата обращения: 13.01.2014).
- Бахтин М.М. Литературно-критические статьи/сост. С. Бочаров и В. Кожинов. М.: Худож. лит., 1986. С. 121-122.
- Юрченкова Н.Г. Мифология в культурном сознании мордовского этноса. Саранск: Изд-во Морд, ун-та, 2002. С. 4.
- Широкогоров С.М. Этнос: исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений//Изв. вост. фак-та Гос. Дальневост. ун-та. Вып. XVIII. Т. I. Шанхай, 1923. С. 43.
- Там же. С. 21.