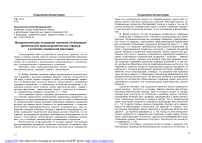Методологические основания изучения легитимации деятельности правоохранительных структур в условиях социальной транзиции
Автор: Краснюк Константин Владимирович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социологические науки
Статья в выпуске: 1, 2009 года.
Бесплатный доступ
Анализируется одна из важнейших социальных функций, от которых в первую очередь зависит процесс воспроизводства общества, - правоохранительная деятельность по защите официальных институтов от носителей и реализаторов (индивидуальных и коллективных) альтернативных нормативных установок.
Правоохранительные органы, правоохранительная деятельность, правовой порядок, легитимация. библиографический список и примечания
Короткий адрес: https://sciup.org/14932710
IDR: 14932710 | УДК: 316.4
Текст научной статьи Методологические основания изучения легитимации деятельности правоохранительных структур в условиях социальной транзиции
М. Вебер, выявляя различие между юридическим и социологическим подходами к изучению правовых явлений, отмечал: «Социология в той мере, в какой «право» попадает в орбиту ее исследования, занимается не выявлением логически верного «объективного» содержания «правовых положений», а действиями, в качестве детерминант и результатов которого могут, конечно, играть значительную роль - наряду с прочими факторами - представления людей о «смысле» и «значимости» определенных правовых положений» [1, с. 508].
Если правовой подход к изучению деятельности правоохранительных структур предполагает рассмотрение нормативных документов, регулирующих их функционирование структур, круг их прав и обязанностей, то социологический подход исследует ориентации поведения социальных акторов, где важное место отводится их представлениям о «смысле» деятельности правоохранительных структур. Следовательно, одна социальная ситуация побуждает акторов к выработке разнообразных проектов, касающихся социетальной организации данного общества, что заставляет исследователя правовой проблематики анализировать ее не только с точки зрения «объективного» содержания «правовых положений», но и учитывать рекомендации «понимающей» социологии.
Возникновение представлений, от которых зависит легитимация функционирования важнейших социальных институтов, не является следствием исключительно законотворческой деятельности государства, 12
равно как и результатом усилий «по созданию мнения» какого-либо отдельно взятого субъекта социального действия. Многофакторность ле-гитимационных процессов обуславливает наличие в одном и том же обществе множества интерпретаций самого понятия «правовой порядок» и еще большего количества методик по его достижению и воспроизводству.
М. Вебер отмечал, что при толковании человеческого поведения «… наибольшей «очевидностью» отличается целерациональная интерпретация. Целерациональным мы называем поведение, ориентированное только на средства, (субъективно) представляющиеся адекватными для достижения (субъективно) однозначно воспринятой цели» [1, с. 495]. Бесспорно, что правовая проблематика обусловлена стремлением акторов к предсказуемости социальных контактов, к снижению количества рисков, имеющих социальное происхождение. Выбор средств для достижения этой цели в принципе определяется характером взаимоотношений, существующих в треугольнике государство - общество - правоохранительные органы. Наличие этой базовой структуры правовой ситуации позволяет сравнивать различные правовые воззрения и, в том числе, восприятие обществом агентов правоохранительных институтов. Одновременно конфликт синхронно существующих структур восприятия, их изменения в процессе исторического развития обостряют проблему «понимания» такого многообразия. Очевидно, что решение этой проблемы лишь частично зависит от объективных показателей эффективности правоохранительной деятельности. Не меньшее значение в выстраивании структур его восприятия общественным сознанием играет ценностнонормативное устроение, или социокультурные характеристики, данного общества.
Одной из ключевых тем социологии является анализ взаимоотношений «актора», института и «социума». Широко известны два противоположные аналитические подхода, один из которых исходит из определяющей роли институтов по отношению к индивиду, другой, напротив, подчеркивает активную роль индивида, порождающего в своей деятельности социальные структуры (и социум в целом). Так, в теоретической схеме структурной социологии «общество преобладает над субъектом» [2, с. 15]. С другой стороны, критики «господства структур» четко ориентируются на субъективизм; в результате, как замечает Э. Гидденс, «концептуальный водораздел между субъектом и социальным объектом расширился… до огромных размеров» [2, с. 15]. Выход из этого методологического конфликта Э. Гидденсом был предложен в виде теории структурации, ориентирующей на изучение «результатов взаимодействия существовавшей прежде социальной структуры с деятельностью конкретного индивида»[2, с. 38].
Согласно этой теории, «структура состоит из правил и ресурсов, способствующих производству/воспроизводству социальных институтов», в
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer
Социологические науки
которых воплощена стабильность социальной жизни [2, с. 68]. Стабильность эта может быть представлена в двух аспектах. Во-первых, институциональная стабильность выражается в самом факте постоянного присутствия института в социальной жизни, объясняемого постоянно воспроизводящейся потребностью в нем. Во-вторых, важность института в процессе социального воспроизводства означает, что члены общества, как правило, не заинтересованы в постоянном изменении этих институтов. Большинство при этом включаются в институциональные практики таким образом, что их мысли направлены на решение в ходе этих практик «личных проблем», а вовсе не на размышление о детерминантах тех правил социальной игры, которые аккумулируются в рамках определенного института. Как и любой другой механизм, институт становится темой для размышления лишь тогда, когда становятся заметными его дисфункции.
Таким образом, институциональные практики представляют собой смесь осознанных действий и условных «социальных рефлексов», обдуманного и спонтанного, предсказуемого и неожиданного. Как замечает Гидденс, «…структура не существует независимо от знаний деятелей относительно того, что они делают в процессе повседневной деятельности. Субъекты деятельности всегда имеют представление о том, что делают: в виде некоторого описания, существующего на уровне дискурсивного анализа. Однако другие описания могут представлять их деятельность совершенно иным, незнакомым и непривычным, образом; и, кроме того, субъекты могут практически ничего не знать о многочисленных последствиях собственной деятельности» [2, с. 71-72].
Итак, общество воспроизводится в ходе вовлечения и участия индивидов в институциональных практиках. При этом модальные для любого общества отношения господства-подчинения выражаются в интериори-зации акторами правил, с одной стороны, «производящих значение (структурирующих каждодневный дискурс и взаимные понимания действий как значимых для участников взаимодействия…)», а с другой - «санкционирующих способы социального поведения" [2, с. 74]. Именно в ходе усвоения членами общества этих "объясняющих и угрожающих» правил происходит легитимация как конкретных институтов, так и социального порядка в целом.
Эта модель легитимации может быть использована лишь при условии учета двух обстоятельств субъективного плана. Во-первых, постоянно воспроизводясь в обществе и воспроизводя тем самым общество, в жизни отдельного актора институт присутствует, как правило, дискретно. Например, пройдя образовательную практику в учебных заведениях (еще в первой половине жизни) большинство членов общества навсегда дистанцируется от института образования в качестве потребителей его услуг. Здоровый человек старается не соприкасаться с лечебными учреждениями; отслуживший в армии солдат срочной службы стремится поки-
Социологические науки
нуть армию и т.д. Известно, что часть индивидов после участия в определенных практиках начинает оценивать порождающие их институты отрицательно. Поэтому алгоритм легитимации институциональной структуры включает в себя доказательство его необходимости для общества и конкретного индивида и объяснение институциональных дисфункций, если существует негативная оценка данного института.
Во-вторых, существующие конкретные институты в любом обществе обладают своей «теневой» структурой. При этом часто речь идет не об удвоении институциональных агентов, а об удвоении рынков, на которых один и тот же агент предлагает однотипные услуги, но на разных условиях. Например, учитель, официально занятый в общеобразовательной школе, одновременно может быть носителем теневых практик репетиторства. Но возможно и разведение официальной и теневой структур по субъектам деятельности. Дипломированному врачу противостоит знахарь (бывает, тоже дипломированный врач); полицейскому - босс или глава местной мафии, разрешающий массу бытовых и криминальных микро-конфликтов без вмешательства закона и т.д. Ясно, что официальные институты и их теневые двойники находятся в тесном симбиозе. Их сосуществование нередко выгодно для социальной структуры в целом, поскольку является источником инновации. Даже если это сосуществование принимает разрушительные размеры, попытки восстановить пошатнувшийся авторитет официальных институтов будут обречены на провал, если легитимация сведется к подчеркиванию их позитивного (в правовом понимании этого слова) характера.
На малую эффективность официозного, а тем более официального противопоставления «позитивных» институтов «теневым» указывал еще Э. Сатерленд в рамках теории дифференциальной ассоциации. Касаясь причин приобщения молодежи к криминальным практикам «теневого» мира, он подчеркивал, что "преступные взгляды, ориентации и умения усваиваются в группе при личном неформальном общении. Формальный подход воспитателей в школе, а также родителей, не имеющих психологического контакта с детьми, часто бьет мимо цели, и воспитательные усилия этих лиц нередко имеют нулевой эффект. Подлинным воспитателей такого подростка оказываются участники неформального общения в группе правонарушителей» [3, с. 179].
Иначе говоря, легитимация институтов - особенно тех из них, участие которых в процессе воспроизводства общества особенно велико -должна носить тотальный характер, то есть быть ориентирована в каждый данный момент времени на все социальные слои. Кроме того, общество должно научиться использовать в своих целях результаты функционирования «теневых» структур. «Тень» института может быть использована не только в виде жупела для конформистов. «Теневая» институциональная практика может выступать в качестве стимула инновационной деятельности агентов официальных институтов, то есть реаль-
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer
Социологические науки
но корректировать «охраняемый обществом и государством» способ удовлетворения определенной социальной потребности, осуществляя своего рода обратную связь между индивидом и структурой.
К числу важнейших социальных функций, от которых в первую очередь зависит процесс воспроизводства общества, относится правоохранительная деятельность - деятельность по защите официальных институтов от носителей и реализаторов (индивидуальных и коллективных) альтернативных нормативных установок. Как замечает профессор кафедры организации охраны правопорядка Санкт-Петербургского университета МВД России Ю.Е. Аврутин, она включает в себя «различные формы и методы, как правовые, так и неправовые, организационные, в конечном счете, всегда» связанные «с созданием, изменением, отменой нормативных актов, устанавливающих права физических и юридических лиц; разрешением юридических коллизий, вытекающих из правоотношений; защитой и восстановлением субъективных прав граждан, государственных органов, общественных объединений, предприятий, организаций, учреждений; применением убеждения или принуждения к лицам, не выполняющим свои юридические обязанности» [4, с. 101].
Уже из этого краткого описания сферы деятельности правоохранительных органов, ориентированной на «разрешение юридических коллизий" в социетальном масштабе, можно предположить наличие множества проблем с их легитимацией. Погруженность данных органов в эпицентр социальных конфликтов порождает массу недовольных, разочарованных и т.д. в результатах разрешения конкретной «юридической коллизии». Неудивительно, что «механизм предоставления обществом (народом) государству права формировать те или иные правоохранительные органы и санкционировать формы и методы их работы пока до конца не ясен ни теоретикам права, ни специалистам в области уголовного права» [4, с. 100]. Как сочетать свободы человека с мерами по снижению криминогенного потенциала общества, нередко требующими определенного ограничения тех или иных свобод? Ведь правовое попустительство, ведущее к утрате безопасности, создает лишь иллюзию свободы: в криминализированном социуме любая свобода индивида легко может быть «отменена» представителем преступного мира [5, с. 45-48].
Хотя высокое значение правоохранительной деятельности в деле воспроизводства общества кажется очевидным, позитивный образ правоохранительных органов в общественном сознании не может возникнуть спонтанно по целому ряду причин. Среди них: индивидуальные промахи сотрудников; двусмысленность положения правоохранительных органов в структуре трансформирующейся социальной системы, порождающей целый спектр противоречащих друг другу воззрений на природу закона и права; усилия преступного мира по дискредитации своих противников и романтизации собственных «трудовых будней». Между тем без позитивного отношения граждан к охраняющим закон (а следова- 16
Социологические науки
тельно, в идеале интересы всего общества) личностям и структурам достижение устойчивого правового порядка в обществе представляется невозможным.
Важно при этом помнить, что значительная часть граждан, имеющая определенное ценностно-окрашенное представление о правоохранительных органах, формирует его на основе данных, полученных косвенным путем, априорно [6]. Правоохранительные органы - прежде всего те структуры, которые первыми вступают в борьбу с криминальным злом и приходят на помощь гражданам, ставшим его жертвами, - не могут пожаловаться на дефицит внимания к себе со стороны общества. Однако ожидать от людей беспристрастности в оценке деятельности институтов, от которых зависит степень их свободы и безопасности, для работников правоохранительных органов было бы бессмысленно. Страсти и страх, обиды и благодарность, разочарования и надежды - все эти движения человеческой души необходимо учитывать при анализе восприятия общественным сознанием правоохранительных органов в не меньшей степени, чем их юридический статус и рационалистические обоснования необходимости подобных структур в любом обществе.
Периоды системных кризисов, которые переживает любое общество, связаны с состоянием социальной аномии - дисфункции институтов, регулирующих социальные взаимодействия, таких как право, обычай или мораль. Поддержание правого порядка в эти периоды представляет особенные трудности, что связано не только с падением авторитета правовых норм, но и с размыванием профессиональной культуры представителей правоохранительных органов. Российское общество в канун XXI века переживает именно это состояние. Проблематичность функционирования правоохранительных органов в данной ситуации может быть более ярко представлена, если вспомнить, что российские историки, философы и юристы еще в XIX веке отмечали слабое уважение к закону во всех слоях общества. В частности, замечательный российский историк В.О. Ключевский писал: «Не я виноват, что в русской истории мало обращают внимание на право: меня приучила к этому русская жизнь, не признававшая никакого права» [7, с. 68]. Поэтому вопрос о восприятии милиции различными слоями современного российского общества является не праздным и не однозначным по своему содержанию.
Структуры восприятия (социальной) действительности представляют собой спонтанную ориентацию индивида и (или) группы на обнаружение в определенной социальной сфере устойчивого повторяющегося отношения между ее элементами, причем такое отношение считается для данного общества типичными, само собой разумеющимся, определяющимся его социокультурной спецификой. Уточним, что «спонтанность» функционирования структур восприятия означает не их стихийное складывание, а их принадлежность сфере практического сознания [8]. Очевидно, что понятие «структура восприятия» не равнозначно по-
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer
Социологические науки
нятию «легитимация». Легитимация есть процесс «объяснения» и «оправдания» элементов институциональной традиции [9, с. 153], и, как таковая, она включена в структуры восприятия социальной действительности «добропорядочных граждан». С этой точки зрения их восприятие действительности, равно как и участие в ней, выглядят шаблонными, предсказуемыми, стереотипными; на них и основывается повседневное социальное взаимодействие. Понятно, что «добропорядочные граждане» выделяют в окружающей их действительности те элементы, которые «объясняют» и «оправдывают» их соучастие в ее воспроизводстве.
Наряду со структурами восприятия, легитимирующими институциональный порядок, (конформными) в обществе существует мощный пласт «девиантных версий» [9, с. 174] социального устройства. Они «объясняют» и «оправдывают» другой институциональный порядок, тогда как при восприятии существующего замечают в нем те элементы, которые обусловливают их критичность, брюзжание, недовольство, прочие формы социального неподчинения/сопротивления здесь и сейчас. Разумеется, шаблонность, предсказуемость, стереотипность являются неотъемлемыми характеристиками и «девиантных» структур восприятия.
Противоречия между «конформными» и «девиантными» структурами восприятия, а также историческая динамика социальной реальности положительно влияют на распространение структур восприятия правоохранительных органов. Кризисы роста и социальная эволюция приводят к появлению институциональных инноваций, что ведет к обновлению структур восприятия за счет либо легитимирующих, либо отрицающих нововведения элементов. Понятно, что все это многообразие произрастает из одного корня: первоначального (исходного) решения проблемы, воспроизводство которой в социальной жизни породило конкретную тему институционального творчества. Эта матрица социального действия дает массу вариаций, проникнутых как духом следования традиции, так и духом революционных преобразований. Воспроизводство этой матрицы в социальной практике в виде последующих модификаций обеспечивает сохранение институциональной идентичности общества. Ее легитимация в структурах восприятия означает сохранение его ценностной идентичности. Рост девиантных вариантов структур восприятия означает, что прежние институты и ценности поставлены под сомнение «бунтарями», «революционерами».
В интересующем нас плане матрица социального действия по сохранению правопорядка в обществе определяется отношениями, возникающими в треугольнике государство - община - правоохранительные органы. В толковании этих понятий мы опираемся на ставшие классическими и отвечающими ракурсу нашей работы определения Ф. Тенниса и М. Вебера. Под общиной мы понимаем сегмент населения, основывающийся на единстве «человеческих воль как изначального или естественного состояния, которое сохраняется, не смотря на их эмпирическую разделенность, и пронизывает ее, принимая многообразный облик
Социологические науки
в зависимости от необходимых и наличных особенностей отношений между по-разному обусловленными индивидуумами» [10, с. 16]. Иначе говоря, община эта та совокупность индивидуумов, которая может регулировать отношения внутри себя естественным путем, т.е. без санкционируемого государством вмешательства его институциональных агентов. Наличие и актуальность таких естественных регуляторов объясняется относительной слабостью интерсубъективных противоречий в данной «эмпирической разделенности человеческих воль», что позволяет индивидуумам взаимодействовать и сосуществовать, не прибегая к помощи государственных регуляторов социального поведения. Таким образом, общиной может быть названо население городского района и даже страны в том плане и настолько, насколько для него оказываются значимыми и типичными пласты практик, регулируемых не государством, а моралью. В то же время семья, занятая бракоразводным процессом, на определение общины претендовать уже не может.
Исторически рост внутренних противоречий в общине приводит к тому, что все больший сегмент практик изымается из-под непосредственного контроля ее членов и переходит под контроль государства. Государство обладает способностью регулировать эти практики не только и не столько с помощью моральных императивов, сколько с помощью угрозы легитимного насилия [11], право осуществлять которое монопольно сосредотачивается в узком слое агентов государственных институтов. Данные агенты специализируются на сопоставлении реальных практик с положениями законодательства, выявлении степени расхождения между ними, определении карающих отступника последствий, поиске лиц, уклоняющихся от причитающегося им наказания и т.д. Особую роль среди представителей различных правоприменительных структур занимают агенты, ведущие повседневный контроль за уровнем делинквентности и, как следствие, уровнем законности в общине, находящиеся, таким образом, на пограничной линии между общинной правовой самодеятельностью и санкционированными государством правилами социальной игры. Именно эти институциональные агенты погруженных в повседневную жизнь общины и осуществляющих правовую экспертизу деятельности ее членов «здесь и сейчас» представляют правоохранительные органы. На разных этапах исторического развития и в различных обществах лиц, выполняющих обозначенные характеристики, определяли по-разному: центурионы, губные старосты, полицейские, милиционеры и др. Независимо от специфики выполнения ими данной функции в конкретно-историческом обществе, главное ее содержание сохранялось - контролировать поддержания установленного правового порядка.
Список литературы Методологические основания изучения легитимации деятельности правоохранительных структур в условиях социальной транзиции
- Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии//Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
- Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М., 2003.
- Иншаков С.М. Зарубежная криминология. М., 1997.
- Аврутин Ю.Е. Полиция и милиция в механизме обеспечения государственной власти в России. СПб., 2003.
- Богданов Д. «Бригада». Размышления после просмотра//Дуэль. 2004. № 15.
- Ключевский В.О. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. М., 1993.
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995.
- Тенис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии. СПб., 2002.
- «Государство, равно как и политические союзы, исторически ему предшествующие, есть отношение господства людей над людьми, опирающиеся на легитимное (то есть считающееся легитимным) насилие как средство. Таким образом, чтобы оно существовало, люди, находящиеся под господством, должны подчиняться авторитету, на который претендуют те, кто теперь господствует» (Вебер М. Политика как призвание и профессия//Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 646).