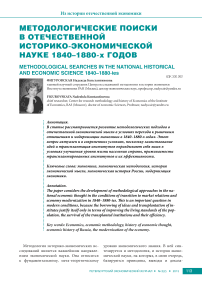Методологические поиски в отечественной историко-экономической науке 1840–1880-х годов
Автор: Фигуровская Надежда Константиновна
Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal
Рубрика: Из истории отечественной экономики
Статья в выпуске: 2 (2), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается развитие методологических подходов в отечественной экономической мысли в условиях перехода к рыночным отношениям и модернизации экономики в 1840–1880-х годах. Этот вопрос актуален и в современных условиях, поскольку заимствование идей и трансплантация институтов оправдывают себя лишь в условиях улучшения уровня жизни населения страны, приживаемости трансплантированных институтов и их эффективности.
Экономика, экономическая методология, история экономической мысли, экономическая история России, модернизация экономики
Короткий адрес: https://sciup.org/140128786
IDR: 140128786
Текст научной статьи Методологические поиски в отечественной историко-экономической науке 1840–1880-х годов
Методология историко-экономических исследований является важнейшим направлением экономической науки. Она относится к фундаментальному, мета-теоретическому уровню экономического знания. В ней синтезируется и методология, и история экономической науки, на которых, в свою очередь, базируются принципы, выводы и доказа- тельства многих экономических положений, теорем и теорий. Методология, как учение об основных методах науки и как сама совокупность методов, т. е. методов, имеющихся в распоряжении науки, имеет свою историю становления и развития.
Западноевропейское теоретическое знание развивалось под влиянием двух основных научных направлений, унаследованных от древних греков и римлян – греческой философии и римского права. Термин «методология» философского происхождения. Он появился как комбинация двух древнегреческих слов: «методос» – способ, путь и «логос» – учение. Буквальный перевод слова «методология» – учение о методе или учение о методах. В трудах средневековых схоластов под методом понималась определенная совокупность устойчивых правил, предназначенная для достижения какой-либо цели. Основное назначение метода – быть «компасом» или «светильником» в руках познающего субъекта на пути к чему-либо. Истинный метод служит своеобразным компасом, благодаря которому субъект познания и действия выбирает правильный путь рассуждения и поведения, избегая ошибок и заблуждений.
Из римского права средневековые цивилисты и схоласты привнесли в философию и методологию науки идеи практицизма и действия, которые отсутствовали в греческой философии созерцания и абстрактного мышления. Становление западноевропейской философии происходило в борьбе с религией, католической церковью и каноническим правом. Идея естественного, природного права не только подорвала догматы о сотворении мира, но и дала сильнейший импульс развитию естествознания, которое, в свою очередь, оказало (и оказывает) значительное влияние на мировоззрение и мировосприятие человека «нового» времени.
К началу XVIII века структура научного знания усложнилась настолько, что стало понятно: сведение методологии к простой совокупности методов является достаточно сильным упрощением. Методология не есть простая сумма отдельных методов, их механическое единство. Методология – сложная диалектическая, целостная, субординирован- ная система способов, приемов, принципов разных уровней, сфер действия, направленности, эвристических возможностей, содержаний, структур и т. д. Однако избавиться от наследия двух ветвей развития философии, по своему осмысляющих первичность мышления или бытия, первичность разума («рацио») или опыта («эмпирио»), идеала или сущего, путем их диалектического соединения в новую, целостную философию – философию «всеединства», оказалось непросто.
Значительный вклад в синтез рационалистической и эмпирической методологии внесла немецкая классическая философия в лице И. Канта и Г. В. Ф. Гегеля. Как отмечал впоследствии Гегель, – Кант первым предпринял плодотворную попытку синтезировать эмпирическое направление Локка – Юма и рационалистическое направление Декарта – Лейбница, но при этом, – саркастически замечает Гегель, Кант все же не связал концов с концами. «И в самом деле, само научное познание должно быть единством и истиной этих двух моментов, но у Канта и мыслящий рассудок [разум] и чувственность [эмпирика, опыт] остаются обособленными, соединенными лишь внешним, поверхностным образом, подобно тому, как связывают, например, деревяшку [протез] и ногу веревкой» [1, с. 342]. При таком «синтезе» нога остается ногой, а деревяшка – деревяшкой, сращивания не происходит.
Гегель привнес в философию и, соответственно, в научную методологию, понятие историзма. Благодаря историческому подходу, при котором процесс эволюции разума дополняется эволюцией материальных условий его существования, и не только существования, но и развития, диалектика как учение о развитии дополнилась историческим материализмом. В философии права, где более явно прослеживается неразрывность мышления и бытия, Гегель более удачно, чем Кант, синтезировал эмпиризм и рационализм, однако не смог избежать обвинения в идеализме, поскольку провозглашенный им принцип субстанциальности мышления может служить безусловным основанием для зачисления Гегеля в лагерь философов-рационалистов.
В своей философии Гегель развил диалектическую мысль о том, что всякое начало есть неразвитый результат, а результат есть развитое начало. Мышление начинается с ощущения, происходит из эмпирии, но это только исходная ступень мышления, начальный этап собственной деятельности мышления. «Эмпирия, опыт, не есть голое наблюдение, слышание, осязание и т. д., восприятие единичного», – говорит Гегель; эмпирия ставит своей целью найти роды, всеобщее, законы. «Создавая эти последние, она встречается с почвой понятия, порождает нечто такое, что принадлежит почве идеи; она, следовательно, препарирует эмпирический материал для понятия...» [1, с. 348].
Гегель, конечно, был рационалистом в том смысле слова, в котором рационализм обычно противопоставляется иррационализму. Но Гегель не был рационалистом подобно Декарту, Лейбницу, Спинозе, поскольку не отвергал главный тезис эмпиризма: «нет ничего в интеллекте, чего не было бы раньше в ощущении». Все дело, однако, в том, что по Гегелю, не эмпирия, не ощущения служат субстанциальной основой познания, а мышление, именно оно «составляет не только субстанцию внешних вещей, но также и всеобщую субстанцию духовного». «Во всех формах духа: в чувстве, в созерцании, как и в представлении, – мышление составляет основу». Гегель подчеркивал, что обыденное сознание непродуманно перескакивает с понятия на понятие, не думая об их соподчинении и о порядке перехода от понятия к понятию. Например, оно «считает качество и количество двумя самостоятельными рядоположными определениями и поэтому утверждает: вещи определены не только качественно, но также и количественно. Откуда берутся эти определения и как они относятся друг к другу, – об этом здесь не спрашивают».
В отличие от обыденного сознания, – говорит Гегель, – наука предполагает не бездоказательные заверения по типу «а также» или «вот еще», или «далее следует», но наличие определенного принципа выведения понятий, не лишенное логики расположение понятий друг возле друга, а имманентное раз- витие понятия, доказывающее его право на определенное место в цепочке логических рассуждений [1, с. 356]. Место это определяется строгой дедукцией (синтезом) на основе анализа диалектического противоречия из предшествующего развития понятий. Анализ и синтез присутствуют в науке на любой – эмпирической и теоретической – стадии развития. Но можно говорить о преобладании на различных ступенях развития науки анализа или синтеза. Когда наука находится на стадии первоначального эмпирического исследования некоего конкретного целого, она по преимуществу анализирует. Но когда задача аналитического расчленения некоего конкретного выполнена, когда выступает задача систематического воспроизведения этого конкретного на путях мышления, когда наука образует систему, тогда преобладает синтез или, так сказать, научное конструирование, которое, как предупреждает Гегель, должно быть не произвольным, а обоснованным.
Гегель язвительно отзывался об авторах, методология научного исследования у которых «проявляется лишь таким образом, что ставят теперь: «Вторая глава» или пишут: «Мы переходим теперь к суждениям» и т. д.». Та или иная методология дает о себе знать, когда обобщение проанализированного («расчлененного» на составные части) эмпирического материала затем синтезируется («конструируется») по схеме развития явления, взятого в его целостности, в его исторической эволюции. Поскольку любая наука имеет идеографический (индивидуальный) аспект, то есть предполагает изучение определенного количества отдельных фактов для выявления качественного состояния изучаемого объекта, то совпадение исторических фактов в страноведческом и региональном разрезе рассматривалось в гегельянской философской концепции диалектически, т. е. его учение о развитии органично включало в себя в качестве базовой составляющей закон перехода количественных изменений в качественные. И, что особенно важно для понимания причин распространения его учения за пределы Германии, указанная историофилософская система допускала всеобщее применение аб- страктных теоретических положений, сформулированных в определенном месте и в определенное время, для другого места и другого времени, при совпадении определенного набора количественных, эмпирических наблюдений. Рационалистическая и дедуктивная в своем содержании философско-методологическая концепция исторического процесса, разработанная Гегелем, легла в основу критического анализа, положенного в основу методологии немецкой исторической школой.
Как известно, с самого возникновения классической политической экономии считалось, что она пользуется номографическими (всеобщими) исследовательскими методами. Немецкая историческая школа в политической экономии, опираясь на философские, методологические и исторические работы Виндель-банда и Риккерта, поставила этот тезис под сомнение, доказав, что английская политическая экономия использовала на самом деле идеографические (индивидуальные) построения, получившие статус всеобщих не благодаря эмпирическим совпадениям, а вследствие многовековой экономической и идеологической экспансии Англии на континенте.
Применяя исторический подход Гегеля к критике «смитианства», немецкие историки-экономисты радикальным образом пересмотрели индивидуалистическую парадигму английской политической экономии. Творцом истории немецкие экономисты считали не индивидов, не отдельные личности, а народ, причем под народом понималась не хаотическая совокупность индивидов, совершающих различного рода и выгодные лишь для себя сделки, а «национально и исторически определенное, объединенное государством единое целое». Личность, индивид – не является «гомункулюсом», выращенным в пробирке, она – продукт той или иной цивилизации и исторически определенного этапа развития нации. Духовные и материальные запросы человека не являются некой константой, не меняющейся с течением времени и места. Его потребности, его образование и его отношение к вещественным ценностям, равно как и к людям, «географически и исторически беспрерывно изменяются и развиваются вместе со всею образованностью человечества». Не отрицая, что поступками отдельного индивида движет эгоистическое чувство, представители немецкой исторической школы вместе с тем не рассматривали индивида, существующего вне общества.
Человеку, осознавшему свою принадлежность к нации, к народу, присущи чувства общности и справедливости, которые трансформируют индивидуальный эгоизм в национальный интерес и формируют национальный характер того или иного народа. Соответственно, под политической экономией немецкие экономисты понимали науку о государственном и народном хозяйстве. То, что в английской политической экономии занимало главенствующее положение, а именно – проблемы торговли и ростовщичества, производства капитала и т. п., в политической экономии немецких авторов выглядело не столь значительно. Основными проблемами политической экономии они считали прогресс в народном хозяйстве и меры, которые могут обеспечить эффективный экономический рост или экономическую мощь страны. Относительно подобного рода мер мнения распадались на два лагеря – на сторонников государственного протекционизма и на экономистов либерального толка, придерживающихся старой версии о благе государственного невмешательства в экономическую жизнь общества.
Дискуссии сторонников и противников протекционизма во многом спровоцировали обращение к трудам экономистов прошлого и к сопоставлению их идей с динамикой развития экономики той или иной страны. Другими словами, немецкая историческая школа впервые поставила проблему «положительных» и «отрицательных» идей в политической экономии: какие идеи способствовали экономическому росту и процветанию страны, а какие, напротив, мешали данному процессу. С самого возникновения истории экономической мысли как самостоятельного направления историко-экономических исследований считалось, что она пользуется номографическими (всеобщими) исследовательскими методами. Немецкая историческая школа в политической экономии, опираясь на философско-методологические труды Вин-дельбанда и Риккерта поставила этот тезис под сомнение, посколь,ку английская классическая политэкономия использовала на самом деле идеографические (индивидуальные) построения, получившие, вследствие последовавшей экономической и идеологической экспансии, статус всеобщих.
Быстрому распространению в России идей экономистов, принадлежащих к исторической школе, способствовали славянофилы 1850-х годов, критиковавшие российских либералов за использование космополитических идей «сми-тианцев» в обосновании путей проведения народнохозяйственных реформ. Славянофилы протестовали против абстрактной аргументации и требовали учета определяемых местом и временем факторов хозяйствования, исторически сложившихся в России. В наиболее острой форме критику сторонников либеральных реформ сформулировал Ю.Ф. Самарин – один из лидеров славянофильства: «Мы можем сказать нашим противникам только одно: отложите хоть на неделю Catechisme Economique [в русском издании – «Катехизис политической экономии»] Ж.-Б. Сэя, решитесь выехать за город и тогда увидите то, в существование чего вы не верите, что вам кажется неестественным, невозможным – Русскую общину. Попробуйте!» [2].
Не будет преувеличением сказать, что для России того времени реформы, направленные на разрушение русской общины не были лишь вопросом перестройки организационно-хозяйственной формы аграрного производства. Это была проблема перестройки идеологии общества и его политико-государственной организации. В конечном итоге реформирование русской общины влекло за собой реформирование образа будущего, поскольку общинные условия жизнедеятельности объединяли почти 90% населения страны.
С точки зрения либералов, община препятствовала развитию в России капитализма как прогрессивного экономического строя. Славянофилы признавали, что община нивелирует экономические отношения, препятствует расслоению крестьян на богатых и бедных, но не видели в этом факте признака отсталости России от капиталистических стран Запа- да. Напротив, в связи с распространением в Европе теории и практики социализма и кооперации («филистеров», «фаланг», «копар-тнер-шипов» и т. п.), они полагали, что русская община уже имеет кооперативно-социалистическую организацию, которую в ходе народнохозяйственных реформ надо перенести на производственные отношения всего общества. При этом даже активные противники славянофильства, убежденные «западники», к каковым относился, например, Н. Г. Чернышевский, видели в русской общине основу будущего экономического строя в России.
То же можно сказать о западноевропейских экономистах, которые интересовались Россией. В частности, К. Маркс, давший наиболее обоснованную научную критику капиталистического способа производства, изучал организацию русского общинного хозяйства как одно из альтернативных капитализму направлений производственных отношений, которые, по его мнению, могли быть охарактеризованы в таких понятных для западного читателя терминах, как «социализм» и «кооперация».
Следует, однако, отметить, что славянофилы рассматривали русскую общину не как экономический институт, который возможно плодотворно описать в понятиях английской политической экономии, а как исторически сложившийся образ жизни русского народа. В их аргументации община (в Европе синонимом этого слова является «коммуна» – орган территориального либо вероисповедального самоуправления) выглядела не столько институтом сельскохозяйственного производства или местного самоуправления, сколько способом исторической самоорганизации русского народа, благодаря которому были сформированы и возрождались во времена смуты основы русской государственности. В этой связи И. С. Аксаков подчеркивал: «русская община вносит в науку политической экономии новое оригинальное экономическое воззрение, едва ли вместимое умственным горизонтом западных мыслителей» [3]. А. И. Кошелёв отмечал, что «с помощью английской политической экономии очень трудно защищать всякое живое туземное учреждение» [4].
Славянофилы в этой связи принципиально не использовали идеи и термины господствовавшей политической экономии, как для защиты общины, так и для обоснования курса народнохозяйственных реформ. Они полагали, что в круге понятий и представлений, изначально сложившихся в Великобритании, чьи колониальные владения в 300 раз превосходили метрополию («Англия – владычица морей, повелительница Нового Света и Азиатского континента» – это слова из английского гимна того времени), русская «туземная» община и Россия в целом выглядели не самобытными и самодостаточными, а отсталыми и «необразованными». И хотя А. И. Кошелев в своих мемуарах 1860-х годов отмечал, что российские либералы теперь не возражают, как ранее, против тезиса славянофилов о том, что «каждая нация, в том числе и русская, вносит в общий храм науки свою лепту», это признание не снимало вопроса о том, что собой представляет «наука», то есть вопроса о ее происхождении, истории и строении, или другими словами, историко-методологических основаниях науки.
Вне всякого сомнения, утверждали славянофилы, каждая нация обобщает свой эмпирический опыт и использует его в своей жизнедеятельности. Межнациональное общение способствует унифицированному теоретическому («истинному», «фактическому» или «научному») обобщению. Однако, подчеркивали они, – это унифицированное обобщение происходит по определенной схеме («конструкции», методологии), которая не является нейтральной по отношению к опыту того или иного народа.
Можно согласиться с авторами, критически оценивающими самобытность русской экономической мысли, что славянофилы 1840– 1850-х годов не внесли никакой «лепты» в такие-то и такие-то разделы политической экономии (в ее современном понимании), что их экономические взгляды не стали предметом спора признанных политэкономов, а опубликованные ими труды не получили межнационального признания. Однако благодаря развязанным ими дискуссиям с российскими «западниками» и либералами о «народно- сти» в науке, о роли исторических изысканий в формировании общественного самосознания и самопознания, о значении методологических «конструкций» в построении того или иного научно-теоретического знания, об отсутствии идеологической «нейтральности» в общественных науках и по другим проблемам, все они имели актуальный характер и самым непосредственным образом способствовали развитию русской общественной и, в том числе, историко-экономической мысли.
На основе славянофильства в России возникло новое и более широкое течение общественной мысли, получившее название «народничества». Его истоки лежали как в известной формуле единения власти и народа – «православие, самодержавие, народность», так и в оппозиционном настрое относительно официальной трактовки названного политического и экономического курса самодержавной властью. Идеи народничества базировались на необходимости проведения реформы отмены крепостного права, передачи крестьянской общине функций местного самоуправления и перестроения государственных начал на основе народного представительства. Вместе с тем народники не принимали либерального варианта реформ, касающихся, прежде всего, экономической сферы. В частности, они выступали против проведения земельной реформы по западному образцу, предполагающему проведение выкупной операции, распространение на деревню кредитно-денежных (ростовщических) отношений, превращения значительной части крестьянства в наемных работников (батраков).
Пролетаризация деревни была, по их мнению, губительна для России, поскольку она не соответствовала народному духу, истории российского крестьянства, которое не просто колонизировало огромные российские просторы, но по-хозяйски обустраивало их. В этом, по их мнению, состояло коренное отличие России от европейских стран, где подобного рода реформы проводились в условиях жесткого земельного дефицита и породили проблемы люмпенизации деревни и так называемые «язвы пролетариата». Россия, благодаря своему географическому положению, сохранению общинной организации труда и «гармонии властей» (отсутствия противоречий между ветвями власти), могла провести реформы не только без ущерба для крестьянства, но напротив, разбудить его творческие силы, «благоустроить» Россию, не «переделывая» при этом крестьян в пролетариат.
С началом реформ 1861–1874 годов в российском образованном обществе не утихли, а, напротив, с большей силой разгорелись дискуссии об исторических и методологических основаниях экономической науки. Поскольку сама возможность улучшения экономического положения населения России путем реформ, то есть путем волевого вмешательства в естественный порядок вещей, никем не оспаривалась, возникла серьезная дилемма в отношении естественных (независимых от воли и действий людей) законов политической экономии, сформулированных ее классиками. Если со времен Адама Смита полагали, что политическая экономия приобрела научный статус благодаря существованию естественных законов роста общественного богатства , а целенаправленные действия каких-либо социальных групп и государства вносят лишь «возмущения» в природный порядок вещей (чем нарушается главное требование экономистов ХVIII – начала ХIХ века: «пусть идет, как идет»), то в условиях экономических реформ, проводимых во изменение естественного порядка вещей, следовало либо признать новый научный статус за политической экономией (как науки «субъективной»), либо же искать выход в ее дроблении на части, одна из которых будет содержать компендиум законов «постоянных», а другая – «переменных».
В принципе, континентальная политэкономия (прежде всего, немецкая и французская), стала развиваться по второму пути. Под «общей» или «чистой» ее частью в большинстве европейских университетов понималось изложение «начал» политической экономии, построенное по дедуктивному методу, как ряд положений, составляющих непреложные выводы экономической науки. «Особенная» или «прикладная» часть политической экономии, напротив, строилась на основе индуктивных умозаключений, выводимых на основе объяснения новых явлений, возникающих в результате волевых изменений в народном хозяйстве. Синтез объективных экономических закономерностей и субъективных действий (вызывающих «пертурбации естественного порядка» и приводящих к трансформации теоретически выявленных и сформулированных в началах политической экономии «чистых» экономических законов) предполагалось разрешить на путях методологии позитивизма.
Методология позитивизма известна, поскольку она не только нашла широкое применение в современной экономической науке, но и составляет ее базовую философско-методологическую основу. Ядром позитивизма является «привнесение в науки о человеке законов естествознания, расширение инструментально-познавательных возможностей экономистов за счет математического и экономико-статистического аппарата» [5].
В отличие от «чистого» эмпирического метода, который статичен по своей природе, ибо не допускает вмешательства субъекта в бесстрастно наблюдаемые и регистрируемые факты, позитивист, как «наблюдатель, мысленно ставит себя в положение наблюдаемого», т. е. он выводит закономерности не из должного, как рационалист, пользующийся дедуктивным методом, а как эмпирик-индуктивист, но эмпирик не бесстрастно наблюдающий, а мыслящий, как народ, и действующий , якобы в его интересах. «Представлять себе чужие мысли и чувства в форме собственных, отмечал Н. М. Михайловский (один из родоначальников отечественной школы субъективной социологии), составляет субъективную сторону научного познания. Но разве не так поступает историк, вкладывая собственное понимание в дела и поступки исторических личностей, деяния которых он описывает и истолковывает?».
При этом субъективная сторона исследования нисколько не теряет своего значения и точно так же подлежит оценке, как и логические приемы историка и степень его эрудиции. «Объективист, – продолжал он, – рассуждает очень спокойно и величественно, что политических фактов не следует ни одобрять, ни порицать, а следует только познавать их, и среди этих рассуждений нет-нет да одобрит что-нибудь, и сплошь и рядом одобрит что-нибудь дрянное. Я думаю, что подобные уклонения объективистов от собственной своей программы должны быть объясняемы не частными какими-нибудь причинами, а внутренним противоречием их доктрины и несостоятельностью их метода» [6].
Методология наук о человеке, полагали представители отечественной школы субъективной социологии, дуалистична по своей природе, поскольку выявленные наукой какие-либо явления и отношения не означают, что они удовлетворяют человеческие потребности, которые гораздо шире, чем потребности познания. « Что такое метод? – спрашивал Н. М. Михайловский у своих оппонентов. – Методом называется совокупность приемов, с помощью которых находится истина или, что одно и то же, удовлетворяется познавательная потребность человека. Там, где природа явлений допускает проверку процесса исследования каждым человеком, имеющим достаточно для того сведений, там употребляется объективный метод. Там же, где для проверки исследований требуется, кроме сведений, известная восприимчивость к природе явлений, там употребляется метод субъективный». Таким образом, само признание возможности существования множества научных методологий, вытекающее из известного постулата О. Конта, что «каждая наука – сама себе философия», было дополнено в 1840–1870 гг. в России методологией субъективной, что означало на деле признание за науками о человеке и обществе социального, сословного или классового характера.
Кроме того, в ходе дискуссий об объективно-субъективной природе экономических законов изменилось само понимание предмета политической экономии. На рубеже 1860– 1870-х годов под политической экономией в России стала пониматься не наука о происхождении богатства, а наука «об общих закономерностях промышленного мира; предмет ее исследований – труд, но не техническая его сторона, а общественные отношения, создаваемые трудом, и законы, которым он подчинен». Общественные отношения, при- менительно к изменениям, происходящим в России того времени, трактовались и как социально-экономические отношения, поскольку проводимая «Великая крестьянская реформа» радикальным образом меняла сословно-классовую структуру общества.
Перед отечественной экономической наукой пореформенного периода стояла задача «найти законы хозяйственных явлений, слагающихся под влиянием разнообразных и изменчивых условий». При этом сторонники либеральных и социалистических взглядов, противопоставляя естественный порядок вещей – существующему, видели в естественном порядке не тот, который установился самим ходом истории, а идеальный порядок , который следовало бы установить в будущем. Либеральная школа основывала идеальный социально-экономический порядок будущего на неограниченной свободе частного интереса. Социальные школы, полагая, что свобода частных интересов ведет к угнетению слабого сильным, искали социально-экономический идеал в новой организации труда и, соответственно, в формировании на ее основе новых общественных отношений.
Характерно, и в этом мы видим одну из знаменательных особенностей отечественной академической и проправительственной экономической мысли, что принятое в середине ХIХ столетия в европейских университетах (прежде всего – Германии и Франции) деление политической экономии на «общую» и «особенную», «чистую» и «прикладную», в России не абсолютизировалось. Другими словами, не существовало строгого деления экономических законов на объективные и субъективные. Так, Н. Х. Бунге, А. И. Чупров, Д. И. Пихно и другие в своих лекциях подчеркивали, что «на деле общая часть политической экономии или науки о народном хозяйстве содержит в себе положения, относящиеся к разряду гипотез, а не к непреложным научным выводам. Иногда так называемые экономические законы содержат в себе лишь научные вопросы, требующие разрешения путем переработки значительного количества данных, полученных из наблюдения однородных явлений в различных отраслях хозяйственной деятельности».
Разделение политической экономии на «общую» и «особенную» произошло, полагали они, из-за недостаточной разработки предмета этой науки. «Деление исчезнет само собою, когда общие положения получат значение доказанных и точно сформулированных истин, выведенных из ряда правильных и систематизированных наблюдений, т. е. когда наука будет обработана по положительному методу, что конечно составляет еще задачу будущего»…
Список литературы Методологические поиски в отечественной историко-экономической науке 1840–1880-х годов
- Гегель Г. В. Ф. Сочинения в 20 т. Т. 6. М.: Госполитиздат. С. 342.
- Самарин Ю. Ф. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Изд-во МГУ. С. 156.
- История экономической мысли в России/Под ред. А. Марковой. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. С. 76.
- Реуэль А. Русская экономическая мысль 60-70-х годов XIX века и марксизм. М.: Госполитиздат, 1956. С. 243.
- Бунге Н. Х. Истоки. Киев, 2010. С. 453.
- Михайловский Н. М. Сочинения в 10 т. СПб., 1910. Т. 5. С. 237.