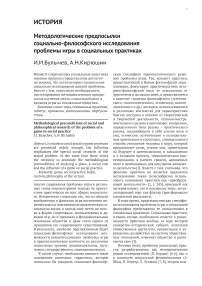Методологические предпосылки социально-философского исследования проблемы игры в социальных практиках
Автор: Булычев И.И., Кирюшин А.Н.
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3 (17), 2016 года.
Бесплатный доступ
В современных социальных практиках игровые процессы представлены достаточно широко, что актуализирует специальное социально-исследование данной проблемы. Вместе с тем, существует необходимость постулирования методологических предпосылок изучения места, социальной роли и влияния игры на социальные практики.
Игра, социальные практики, габитус, привычка, коммуникация, виртуалистика
Короткий адрес: https://sciup.org/14219810
IDR: 14219810
Текст научной статьи Методологические предпосылки социально-философского исследования проблемы игры в социальных практиках
Анализ содержания проблемы игры в различных типах мировоззрения показал ее присутствие практически во всех сферах социального. Исторически сложилось так, что из области воображения и фантазии игра постепенно переместилась в повседневную практическую социальную жизнь и заняла свое место не только в форме спортивных, компьютерных и др. видов игр, но и проникла в фундаментальные основания общества и даже стала одним из принципов его современного существования. В результате, наиболее перспективным будет социально-философское исследование возможности концептуализации проблемы игры в праксеологическом контексте на различных социальных уровнях (индивидуальном, групповом, государственном, наднациональном).
В таком случае, необходимо выявить такое содержание категории «практика», которое позволило бы раскрыть социально-философ- скую специфику праксеологического решения проблемы игры. Так, концепт практики, представленный в Новом философской энциклопедии, фокусирует практически весь историко-философский опыт ее осмысления от Аристотеля и до наших дней, и представляется в качестве «понятия философского (эстетического, гносеологического, этического, политологического и др.) дискурса, использующегося в различных контекстах для характеристики благого поступка в отличие от теоретической и творческой деятельности, технико-инструментального разума в противовес умозрению, определенного типа разума – практического разума, соединяющего в себе усилия воли и ума, этические, эстетические и познавательные ориентации и структуры, универсального способа отношения человека к миру, который предполагает волю, усилия ума, ориентацию на будущее в целеполагании, в замышлении и в создании проекта, технологическом проектировании, в расчете средств, адекватных цели и необходимых для получения желаемого результата»[1]. Вместе с тем, учитывая, что феномен практики не является предметом исследования также целесообразно использовать понимание практики как «преобразующей деятельности» [2, с. 243], присущей как материальному, так и духовному миру, актуализирующей игру как фактор трансформации социальной реальности.
В тоже время, праксеологическая специфика исследования проблемы игры в социальной философии представлена ее осмыслением в социальных практиках. Социальные практики, в таком случае, необходимо отнести к разновидности практики вообще, «в ходе которой конкретно-исторический субъект, используя общественные институты, организации и учреждения, воздействуя на систему общественных отношений, изменяет общество и развивается сам» [3].
Помимо этого, проблемы социальных практик разрабатывались как непосредственно рядом исследователей (П. Бурдье) [4-6], так и в контексте социальной феноменологии (А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман) [7, 8], теории ком- муникативного действия (Ю. Хабермас) [9] и т.д. В отечественной философской и научной традиции осмысления социальных практик также необходимо выделить ряд исследователей [10-13]. Особое значение в современной социальной философии приобретает теория сетевой социальности, демонстрирующая связь социальной практики и коммуникации (М. Кастельс, Ж. Делез) [14, 15].
Наряду с этим, необходимо учитывать тот факт, что социальная практика является более инертным явлением по сравнению с игрой. Так, в социальных практиках Д. Юмом выделялись в качестве существенных элементарные нерефлексивные действия – привычка (habit) или обычай (custom) [16]. Э. Гидденс также говорит о повторяющемся характер социальных практик, сводя их к рутинным социальным действиям [17, с. 185], и отмечает, что рутини-зированные социальные практики представляют собой большую часть повседневной жизни людей. А. Шюц также акцентировал внимание на понимании социальных практик как сферы типизированного социального опыта [18, с. 222].
П. Бурдье в исследовании природы социальных практик также развивал идею их стереотипности в изучении феномена габитуса. Габитус мыслителем представляется как некая отправная точка, которая осваивается человеком в процессе социализации и состоит из совокупности навыков, умений, образа мысли, поступков, реакций и т.д., которые реализуются в виде социальных практик. Он обеспечивает преемственность предыдущего социального опыта и гарантирует закрепление проверенных предыдущей практикой образцов социального поведения.
Между тем, в процессе выяснения особенностей соотношения игры и социальных практик в контексте их функционирования необходимо учитывать стереотипность, рути-низированность социальных практик и нетривиальных, несерьезный и отрицающий всякие шаблоны характер протекания игры. Тем не менее, игра также обладает своим габитусом, который зафиксирован в ее правилах, принадлежностях, составе и количестве участников и т.д. Динамичность изменения содержания габитуса социальных практик оказывается на порядок меньше габитуса игры, который может представлять собой, на первый взгляд, набор непредсказуемых и случайных действий, приобретающих впоследствии устойчивый характер (например, определенная тактика игры в футболе, предполагающая частые переводы мяча с одного фланга на другой, с переднего края наступления в оборону, неожиданные удары и т.д., которая долго совершенствовалась, а сейчас представляет собой один из наиболее эффективных способов игры). Рутинность и стереотипность габитуса игры представляется гораздо меньшей, чем у социальных практик, что, в результате, может способствовать изменению последних. Социальные практики, в таком случае, представляют собой также некое пространство для функционирования игры, где привычки, обычаи, ритуалы, стереотипы и т.д. являются ее объектами воздействия. Следовательно, продуктивным будет социально-философское рассмотрение проблемы игры в качестве фактора трансформации современных социальных практик.
Наряду с этим, необходимо придерживаться точки зрения на игру как специфическую форму социальной практики, которая, в определенной степени присутствует в остальных. Среди разнообразных форм социальной практики выделяются повседневные практики – то, что происходит с человеком изо дня в день: это его профессиональный труд, повседневная деятельность в области досуга и отдыха, в рамках быта и т.д. Главная форма социальной практики – труд, трудовая деятельность людей. Различают также другие «формы практики – социальные действия (реформы, революции, войны и др.) и т.д.», [19] в которых игра в форме борьбы за власть, электорат и т.д. занимает одно из важнейших мест. Применительно к социальным практикам игра пронизывает не только повседневные практики (в настольных, карточных и др. играх) и труд (в его творческом аспекте), но и образовательные (в игровых технологиях обучения и воспитания), виртуальные (сетевых и компьютерных играх) и др. практики, которые тесным образом переплетаются между собой.
Особый интерес и методологическое значение приобретает исследование игры как формы коммуникативной практики. По аналогии с социальными, коммуникативные практики целесообразно представить как упорядоченные совокупности образцов рациональной деятельности, направленные на взаимообмен социально-значимой информацией, чувствами, эмоциями, оценками, совместное формирование новых смыслов и т.д. Вместе с тем, по мнению ряда исследователей, «принципом осуществления коммуникативных практик … является игра» [20, с. 131]. Коммуникативные практики направлены также и на постоянное воспроизводство систем коммуникаций фундаментальных сфер (политической, экономической и т.д.), в том числе и в игрой форме, а также представляют собой мощнейший фактор управления и манипулирования ими.
Игровой характер социального взаимодействия в настоящее время представлен языковыми (словесными) играми, широкое распространение и практическое влияние которых на социальную реальность свидетельствует об исключительности их роли и необходимости более пристального анализа и учета в объяснении ряда социальных явлений (тоталитаризм, пропаганда, информационные войны и т.д.).
Таким образом, игру в социальных практиках целесообразно рассматривать как один из факторов влияния и динамичных аспектов развития последних, которая представляет собой специфическую форму социальной практики, направленную на развитие последних с помощью коммуникативных практик (языковых игр).
Между тем, будет продуктивным исследовать проблему игру в контексте субстанционального характера социальных практик, который воплотился в их институционализации. Так, Т.И. Заславская отмечает, что «социальные практики представляют собой конкретные формы функционирования общественных институтов, общей же формой реализации конкретного социального института … служит совокупность соответствующих социальных практик» [21, с. 7]. Институционализированные социальные практики составляют основу жизни общества, являются гарантом ее развития, вплетены в структуру социальных отношений.
Процессы игры в институционализированных социальных практиках, в таком случае, приобретают иные статусы: от эффективного средства развития социальных институтов до действенного способа манипулирования ими и социальными группами в них вовлеченными. Исследование игры в современных социальных практиках, в таком случае, необходимо осуществлять также в контексте функционирования социальных институтов, осмысления результатов их работы и т.д. путем анализа их деятельности с позиции игрока.
Наряду с этим, особое значение в современной социальной философии приобретает исследование виртуализации социальных практик (создание альтернативного социального пространства в Интернет-среде, симулякрати-зация экономики и политики, распространение дистанционного образования, появление альтернативных социальных миров и т.д.), демонстрирующих связь социальной практики и новых форм электронной коммуникации, требующей специфической методологии исследования проблемы игры в их контексте.
В таком случае, в интересах исследования проблемы игры в виртуальных социальных практиках целесообразно придерживаться ряда методологических положений, позволяющих раскрыть ее содержание.
Во-первых, в целях осмысления проблемы игры в виртуальном формате социальных практик необходимо рассматривать их в кон- тексте взаимодействия объективных и субъективных содержательных элементов.
Под объективным в игре целесообразно понимать ту сторону ее бытия, которая раскрывается в движении, изменении, развитии (религиозно-культовые, социальные и др. истоки), а так же сторону действия, деятельности и всего того, что характеризует игру как процесс [22, с. 124]. К объективным константам игры так же необходимо отнести пространство (поле, площадка, приспособления и т.д.), правила (они же законы игры), зрителей (если таковые присутствуют), совокупность конкретных игровых ситуаций, результаты игры и т.д.
К субъективной стороне игры имеет отношение все то, что происходит в сознании активно действующего игрока, субъекта или объекта игры, в коллективном сознании игроков и зрителей в случае организованной для просмотра командной игры (футбол, волейбол и т.д.), а так же другие факторы, определяющие субъективное содержание игр и их объективное течение (религия, мораль и т.д.).
Продуктивным для исследование будет также учет содержания внутреннего мира субъекта и объекта игры: мировоззренческие установки, преследуемые цели и средства, образ ожидаемого результата и т.д. Учет данных факторов позволит собрать определенный материал для оценки осуществляемой субъектом игры, ее возможных последствиях, средствах, особенностях и т.д., а также предоставит материал для размышления и действий объекту или стороннему наблюдателю игры для проведения контригры в случае необходимости.
Во-вторых, субъективную сторона игры необходимо рассматривать как субъективную действительность со своими законами и устройством, поскольку «с появлением субъектов возникают реальности как субъективные формы представления бытия» [23, с. 33]. дело в том, что каждый субъект, отражая объективную реальность игры, себя и других субъектов, интерпретируя ее, переводит в свое собственное субъективное пространство.
Следовательно, взаимодействие объективной и субъективной реальностей игры формирует игровое пространство, которое будет воплощено в социальных практиках. В таком случае, перспективным способом рассмотрения проблемы игры в социальных практиках является осмысление ее как особой – игровой – реальности. Под игровой реальностью целесообразно понимать пространство или фрагмент социальной действительности, который включает объективные и субъективные процессы игры. По мнению Э. Финка, «этот игровой мир не заключен внутри самих людей и не является полностью независимым от их душевной жизни, подобно реальному миру плотно при- легающих друг к другу в пространстве вещей. Игровой мир – не снаружи и не внутри, он столь же вовне, в качестве воображаемого пространства, границы которого знают и соблюдают объединившиеся игроки, сколь и внутри: в представлениях, помыслах и фантазиях самих играющих... Игровой мир не существует нигде и никогда, однако он занимает в реальном пространстве особое игровое пространство, а в реальном времени – особое игровое время. Эти двойное пространство и время не обязательно перекрываются одно другим: один час «игры» может охватывать всю жизнь. Игровой мир обладает собственным имманентным настоящим. Играющее Я и Я игрового мира должны различаться, хотя и составляют одно и то же лицо. Это тождество есть предпосылка для различения реальной личности и ее «роли»» [24, с. 376].
Необходимо учитывать, что продуктивная направленность изучения игровой реальности заключена не только в исследовании ее объективного, но и субъективного содержания. Вместе с тем, существует необходимость уточнения особенностей функционирования и сущности субъективной стороны игровой реальности, которая находится в органическом единстве и взаимопроникновении с объективной.
В-третьих, выделяя в игре относительно самостоятельные в онтологическом отношении ее объективную и субъективную реальности, отмечается необходимость использования соответствующей методологии исследования, позволяющей подвергать анализу социальные явления, предполагающие функционирование в нескольких действительностях. Учитывая представление игры как соотношения объективной и субъективной действительностей, теоретико-методологическим основанием для ее исследования необходимо признать принцип полионтичности (полионтологичности).
Сторонники идеи полионтичности (полионтологичности) [25-29] исходят из того, что существует много несводимых друг другу, т.е. онтологически самостоятельных, реальностей, например, бодрствование и сон, измененное состояние сознания и обычное состояние сознания. Так, современные концепции сновидения не сводят реальность сновидения только к биологическим основаниям и рассматривают сновидение как самостоятельную реальность, по сути, т.е. онтологически, независимую от бодрствующего состояния, хотя определенным образом и связанную с ней.
В социальном отношении роль виртуального в игре неоднозначна и представляет собой возможность искажать реальность в угоду подлинному субъекту игры через СМИ и Интернет, а также служить развлечением в качестве вовлечения в нее игроков и зрителей благодаря многочисленным компьютерным играм и технологиям их визуализации (шлемы, очки и т.д.). Вместе с тем, распространение нерепрезентативной формы виртуального в современных развлечениях, фундаментальных социальных сферах (экономика, политика, СМИ и т.д.) и практиках чревато негативными социальными последствиям, требующими детального социально-философского анализа.
В-четвертых, важнейшее методологическое значение для исследования проблемы игры в социальных практиках имеет признание за последней принадлежности к коммуникативным процессам, определяющим не только совокупность связей между игроками в процессе конкретной игры, но и взаимосвязь между объективной и субъективной (виртуальной) действительностями игры.
Однако, в ряде отечественных диссертационных исследований [30-32] либо осуществляется решение проблемы конкретных видов игр в контексте процессов коммуникации, либо рассматриваются проблема игры в специфических формах коммуникации. Вместе с тем, существует настоятельная необходимость отдельного рассмотрения проблем игры и коммуникации во взаимосвязи.
Таким образом, исследование проблемы игры в социальных практиках представляет собой перспективную направленность ее социально-философского изучения, раскрывающую все многообразие проявлений игры в социальной реальности, которая конкретизируется в ряде положений:
Во-первых, игра представляет собой форму социальной практики, которая пронизывает все остальные (повседневные, коммуникативные, политические и т.д.). Увеличение влияния и роли игровых процессов в современном социуме необходимо связывать также с расширением коммуникативных практик, языковые игры в которых являются одним из краеугольных камней постмодернистской философии и определяют функционирование и развитие большинства социальных процессов и сфер.
Во-вторых, игра в социальных практиках представляет собой активное средство трансформации и изменений рутинизированных, типизированных, повторяющихся и т.п. элементов его габитуса. Игровые механизмы привносят в социальные практики нетривиальную, творческую составляющую, которая, в тоже время, может использоваться некоторыми субъектами в деструктивных, корыстных, сиюминутных или прагматических целях. Одной из современных игровых практик, активно влияющих на социум, являются виртуальные (содержащиеся как компьютерных играх и симуляторах спортивных, карточных и др. игр, так и в деятельности СМИ), требующие использования новых методологических решений.
В-третьих, исследование игры в социальных практиках необходимо осуществлять в контексте оппозиции субъективного и объективного в ней, которые представляют собой определенные действительности, объединенные в рамках игровой реальности. Продуктивным методологическим инструментарием для анализа проблемы игры как специфической составной реальности будут являться виртуа-листика и принцип полионтизма (полионтологичности), способствующие исследованию виртуальных игровых практик, а также их социальной роли и последствий распространения в обществе. Вместе с тем, виртуалистика и принцип полионтизма (полионтологичости), учитывая многослойный характер игры как реальности, может оказаться перспективной методологией ее исследования в социальных практиках невиртуального содержания.
В-четвертых, многообразие проявлений
игры в социальных практиках и выдвижение на первый план среди них коммуникативных, требует более пристального изучения процес- 22. са коммуникации как сущностного примени- 23 тельно как к решению проблемы игры, так и к . анализу ее конкретных современных проявле ний в системе социальных связей. 24.
Список литературы Методологические предпосылки социально-философского исследования проблемы игры в социальных практиках
- Практика // Новая философская энциклопедия // http://iph.ras.ru/elib/2405.html
- Булычев И.И. Основы философии, изложенные методом универсального логического алгоритма. Тамбов, 1999.
- Социальная практика//http://ru.wikipedia.org/wiki.
- Бурдье П. Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001.
- Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. М.: Институт экспериментальной социологии; Спб.: Алетейя, 2007.
- Бурдье П. Начала. Choses dites. М.: Socio-Logos, 1994.
- Щюц А. Структура повседневного мышления//Социс. 1988. № 2.
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995.
- Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. М.: Весь мир, 2002.
- Громыко Ю.В. Деятельностный подход: новые линии исследований//Вопросы философии. 2001. №2.
- Лазарев В.С. Кризис «деятельностного подхода» в психологии и возможные пути его преодоления//Вопросы философии. 2001. №3.
- Лекторский В.А. Деятельностный подход: смерть и возрождение?//Вопросы философии. 2001. №2.
- Михайлов Ф.Т. Предметная деятельность..чья?//Вопросы философии. 2001. №3.
- Кастельс М. Становление общества сетевых структур//Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология/Под. ред. В.Л. Иноземцева. М.: «Academia», 1999.
- Делез Ж. Различие и повторение. СПб.: Петрополис, 1998.
- Юм Д. Трактат о человеческой природе, или Попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам//Юм Д. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М., 1996.
- Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М., 2003.
- Шюц А. Хорошо информированный гражданин. Очерк о социальном распределении знания//Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М., 2004.
- Глушко И.В. Осмысление феномена социальных практик и возможностей их развития//http://dom-hors.ru/issue/fik/1-2011-1-2/glushko.pdf
- Дроботенко О.А. Игровая социальность: правила и ритуалы виртуальной коммуникации//Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Том 23 (62). 2010. №1.
- Заславская Т.И. О субъектно-деятельностном аспекте трансформационного процесса//Кто и куда стремиться вести Россию? Акторы макро-, мезо-и микроуровней современного трансформационного процесса. М., 2001.
- Казакова Н.Т. Феномен игры в философии: методологический анализ. Красноярск, 1998.
- Лепский В.Е. Парадигмы управления в контексте научной рациональности//Рефлексивные процессы и управление. 2008. №2. Т.8.
- Финк Э. Основные феномены человеческого бытия/Пер. А. Гараджи//Проблема человека в западной философии: Сб. переводов с английского, немецкого и французского. М.: Прогресс, 1988.
- Захряпин А.В. Виртуальное мировоззрение как феномен развития науки и общества. Саранск, 2008.
- Иванов Д.В. Виртуализация общества//Социология и социальная антропология. СПб, 1997.
- Микешина Л.А., Опенков М.Ю. Новые образы познания и реальности. -М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1997.
- Носов Н.А. Виртуальная психология. М., 2000.
- Нуруллин Р.А. Виртуальность как основание бытия. Казань: Изд-во КГУ, 2004.
- Малькова Е.Ю. Этические проблемы виртуальной коммуникации: автореф..канд.филос.наук. Санкт-Петербург, 2004.
- Сумской П.Ф. Телевизионная игра как форма интерактивной коммуникации: опыт культурологического анализа: автореф.канд.филос.наук. Челябинск, 2009.
- Швецов И.В. Игра в рекламной коммуникации: философско-методологический анализ: автореф..канд. филос.наук. Омск, 2008.