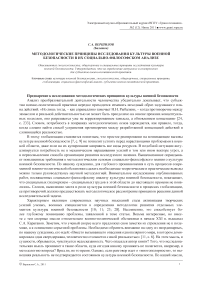Методологические принципы исследования культуры военной безопасности в их социально-философском анализе
Автор: Вершилов Сергей Анатольевич
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (12), 2011 года.
Бесплатный доступ
Описываются гносеологические, общенаучные и специальные принципы исследования культуры военной безопасности. Утверждается, что их определение актуально и своевременно для субъектов военно-политической практики
Культура военной безопасности, глобализация, социально-философский анализ, субъекты военно- политической практики, гносеологические, общенаучные, специальные принципы
Короткий адрес: https://sciup.org/14821647
IDR: 14821647
Текст научной статьи Методологические принципы исследования культуры военной безопасности в их социально-философском анализе
Анализ преобразовательной деятельности человечества убедительно доказывает, что субъектам военно-политической практики нередко приходится изменять исходный образ задуманного плана действий. «Но лишь тогда, – как справедливо замечает Н.Н. Рыбалкин, – когда противоречие между замыслом и реальной действительностью не может быть преодолено на основе прежних концептуальных подходов, оно разрешается уже не корректированием замысла, а обновлением концепции» [24, с. 233]. Словом, потребность в поправках методологических основ зарождается, как правило, тогда, когда сложно найти способ устранения противоречия между разработанной концепцией действий и сложившейся реальностью.
В эпоху глобализации становится понятным, что простое реагирование на возникающие вызовы культуре военной безопасности [7, с. 9] не позволит устоять перед нарастающими проблемами в военной области, даже если на их купирование направить все виды ресурсов. В подобной ситуации актуализируется потребность не в механическом наращивании усилий в том или ином векторе угроз, а в переосмыслении способа организации развития исследуемого явления. Вышесказанное оправдывает повышенные требования к методологическим основам социально-философского знания о культуре военной безопасности. По нашему суждению, для глубокого проникновения в суть процессов современной военно-политической обстановки сделать необходимые теоретические и практические выводы можно только руководствуясь научной методологией. Внимательное исследование опубликованных работ, посвященных социально-философскому анализу культуры военной безопасности, показывает, что специальных (подчеркнем – специальных) трудов в этой области до настоящего времени не появлялось. Словом, выявлению места и роли культуры военной безопасности в процессах глобализации, ее противоречий должно предшествовать методологическое рассмотрение принципов решения данной исследовательской задачи.
Интерес ряда исследователей распространяется также на деятельность субъектов практики по обеспечению безопасности, сделана попытка обратить внимание властей предержащих на необходимость решать возникающие в военно-политических отношениях проблемы на научной (методологической) базе. Основательно подобные суждения представлены в работах Н.В. Злобина [10], Н.В. Михалкина [18] и С.А. Тюшкевича [28]. Принимая во внимание мнение вышеназванных ученых о том, что в период «символа всеобщего» актуально мироустройство иного рода, важно отметить и то, о чем они не сказали. К сожалению, после двух десятилетий «разбрасывания камней» во многих регионах планеты, президентских и правительственных администрациях не представляют себе, как «собирать» эти камни, отсутствует видение способа организации мирового сообщества по укреплению гарантий его безопасного бытия. К тому же глобальный кризис кратно усилил и без того запутанное положение в таком неординарном вопросе. В равной степени это затрагивает и военную безопасность с ее культурной составляющей. По нашему суждению, субъекты практики сосредоточены только на формальном (властном) подходе к реализации военно-политических отношений, сознательно или несознательно игнорируя аксиологический компонент разрешения возникшей проблемы. В свою очередь, это мешает поиску методологических принципов анализа культуры военной безопасности.
Безусловно, есть и другие научные работы, затрагивающие исследуемую проблему, например, монографии Е.М. Примакова [22; 23]. Несомненное достоинство этих трудов состоит уже в том, что автор представил военно-политическую обстановку на планете конца XX – начала XXI в., рассмотрел узко прагматичный подход США к решению проблем международной безопасности. Данные вопросы действительно важные. Вместе с тем, не умаляя заслуг российского ученого и политика, подчеркнем следующее. Во-первых, им сконструирован весьма приблизительный образ требуемой культуры военной безопасности. Во-вторых, усматривается недостаточное обоснование нового мироустройства на базе материальных и духовных ценностей, накопленных человечеством. Вместе с тем, углубленное изучение идей, заключенных в работах Е.М. Примакова, позволило автору статьи сформировать устойчивую точку зрения. Она заключается в следующем: существует необходимость в тщательном анализе различных векторов совпадающих или пересекающихся военно-политических интересов субъектов практики. Данная позиция может и должна стать в начале XXI в. конструкцией (причем основательной) для методологических принципов анализа культуры военной безопасности.
Бесспорно, уяснению социально-философского знания о методологических принципах анализа культуры военной безопасности в системе современных военно-политических отношений содействовало тщательное исследование соответствующих научных статей. А.Ю. Моздаков, О.А. Бельков, Э.Г. Кочетов проявили глубокий интерес к анализу складывающегося миропорядка, представили военную политику в качестве стратегического уровня управления оборонной сферой страны [19, с. 18– 25; 3, с. 283–293; 15, с. 73–88]. Так, по оценке О.А. Белькова, «в последнее десятилетие обозначились процессы повышения роли военной силы в обеспечении политических и экономических интересов государств мира, тогда как целый ряд политических институтов в сфере международной безопасности вступил в полосу жесткого кризиса. Это делает необходимым переосмысление всего комплекса вопросов, относящихся как к основным аспектам международной безопасности, так и к принципам обес- печения военной безопасности Российской Федерации» [3, с. 293]. По мнению Э.Г. Кочетова, который метафорически повторяет мысль О.А. Белькова, «мир сталкивается с сонмом “режиссеров” разного уровня и пошиба: локального, регионального и глобального. Каждый норовит (по Чехову) вынести в первом акте той или иной ситуации (провозгласив ее как “драма”) “ружье” и повесить его на стене, приучая зрителя, что оно должно непременно выстрелить в последнем акте. Но выносить-то под видом ружья стали значительно более серьезные вещи (в зависимости от ранга безопасности): кто “обычное” оружие (от автомата до авианесущего крейсера) <…> кто ядерное оружие с чудом постиндустриального мира – невидимыми ракетами. А человечество как-то свыклось с их деятельностью, и все им сходит с рук» [15, с. 87]. С подобными суждениями нельзя не согласиться, поскольку первое из них методологически основательно, а второе максимально приближено к действительности. Разумеется, это делает честь авторам научных статей.
Однако при всей емкости вышеуказанных научных публикаций, ученые не проанализировали (возможно, и не ставили такую задачу) тот способ организации военно-политических отношений, который предназначен и реализуется для исключения попыток деструктивных сил нанести ущерб военными (и/или невоенными) средствами мировому сообществу. В связи с этим исследователи, субъекты военно-политической практики часто оказывались и оказываются лицом к лицу с неразработанными методологическими принципами, а поэтому предпринимали и предпринимают попытки разрешать сложно запутанные военные проблемы на уровне эмпирического осмысления. Главная причина данной ситуации кроется в том, что анализ специфики и содержания социально-философского знания о культуре конкретного явления, в нашем случае – военной безопасности, не заключается обоснованием способа его реализации на практике. При таком подходе многие руководители государств теряют нить ариадны (а некоторые ею и не владели) при анализе развития культуры военной безопасности, не видят рационального выхода из лабиринта военно-политических отношений в эпоху глобализации.
По нашей мысли, полноценный социально-философский анализ культуры военной безопасности во многом определяется оптимальным набором и научным использованием методологических принципов по пути продвижения к поставленной цели. Наиболее благоприятный набор методологических принципов важен для всеобъемлющего (насколько это возможно) «оцепления» феномена «культура военной безопасности» в области теоретического знания. Непредвзятое, но обязательно эвристичное отражение данных принципов позволит охарактеризовать социокультурное явление – культуру военной безопасности – в единстве ее теоретической и практической значимости. И наоборот, паралогизм (неумышленный подвох) в указании первоочередных позиций чреват сложностями, поскольку подвергаемый анализу феномен будет иметь нечеткие контуры и ориентиры развития.
Процесс обработки культуры военной безопасности актуализирует выделение, как минимум, трех групп методологических принципов: 1) гносеологические принципы исследования культуры военной безопасности; 2) общенаучные методы; 3) специальные нормы и правила, связанные с развитием явления, заявленного в теме статьи. Рассмотрим их.
Гносеологические принципы исследования культуры военной безопасности
Видится логичным определение исходных (гносеологических) положений в достижении необходимого состояния исследуемого феномена. По нашему суждению, одним из средств уточнения ориентиров развития культуры военной безопасности конца XX – начала XXI в. выступает принцип взаимной обусловленности материальных и духовных явлений. Следование ему помогает выявить, во-первых, предпосылки и условия необходимого развития практики сохранения мира на планете и военного дела; во-вторых, решающее значение экономического фактора в формировании культуры военной безопасности государств; в-третьих, влияние оружия, техники, средств связи и транспорта на развитие военного искусства. Так, по мысли Д.И. Макаренко, «успешное разрешение проблем, связанных с обеспечением военной безопасности, невозможно без применения современных инструментальных средств поддержки принятия военно-политических решений» [17, с. 4]. Вряд ли найдется ученый, политик или военный, который стал бы спорить с этим постулатом. Действительно, умная, рациональная политика, государственный реализм и прагматизм должны вытеснить из военно-политической сферы все неразумное. А как все обстоит на самом деле?
По нашей оценке, в эпоху глобализации наблюдается неадекватное отношение к сложным вопросам культуры военной безопасности со стороны субъектов практики, в погоне за сиюминутной выгодой далеких от учета современной экономической и военно-политической обстановки на планете. Стремительный взлет к вершинам политического олимпа не всегда совпадает с ростом военной культуры властей предержащих, которые, согласно Н.Н. Моисееву, «не могут избежать тех или иных подводных камней и катастроф, способных увести в сторону поток развития событий» [20, с. 191]. В такой ситуации международное сообщество не успевает реагировать на скорость созревания вызовов изменениями экономического, политического и собственно военного характера. Словом, новый способ организации предотвращения ущерба материальным и духовным ценностям человечества не создан, существует виртуально, а старый по своим качественным характеристикам не годен.
Особое место в исследовании развития культуры военной безопасности в эпоху глобализации занимает принцип объективности . Он предполагает не выдавать желаемое за действительное, представлять экономические, военно-политические процессы такими, каковы они есть – со всеми плюсами и минусами. Этот принцип позволяет определить логику диалектического отрицания старого качества исследуемого явления и утверждения нового применительно к конкретным условиям военно-политической обстановки. Кроме того, его реализация делает возможными соблюдение преемственности развития национального содержания культуры военной безопасности того или иного государства и отторжение чужеродных элементов, вводимых под лозунгом заимствования иностранного опыта. Находит ли это подтверждение в военно-политической практике субъектов? Прежде чем выскажем свое умозаключение по данному вопросу, обратимся к суждениям и оценкам ряда исследователей.
По мысли В.И. Бажукова, «культура включает в себя результаты любой целенаправленной деятельности, а не только творческой. Она не ограничивается положительным идеалом, а может проявляться и в отрицательных сторонах жизни людей» [2, с. 284]. Это актуально применительно к деятельности военно-политических субъектов начала XXI в. Такой подход требует адекватного ответа на вопрос: планетарная реальность представляет собой результат невостребованности потенциала культуры военной безопасности или негативных сторон стратегии ее повсеместного развития? Скорее всего, последнее больше соответствует реальности, поскольку безудержное стремление амбициозных лидеров разрешать возникающие конфликты с позиции силы все чаще ставит некоторые нации и народности на грань катастрофы. Помимо этого ярко выраженное желание военно-политических элит ряда государств (Чехии, Польши, Грузии, стран Балтии и др.) к безоглядному копированию чужих образцов защиты и нападения сохраняет угрозу потери своеобразных (сильных) сторон своих культур военной безопасности. По мысли Г.Ф. Назаровой, «не безобидно забвение своего пути. Национализм культурно опасен. Опора на национальность культурно необходима» [21, с. 357]. Достаточно весомым в этом смысле представляется и суждение Н.К. Столяровой: «подражательство на деле приводило к значительному отклонению от предначертанного объективными условиями самостоятельного пути, после чего страна под давлением этих условий <…> возвращалась в свою историческую нишу. Первоначальный выигрыш во времени превращался в свою противоположность, а все утраты, риски и жертвы оказывались огромными и невосполнимыми» [27, с. 194–195]. Так, сегодня Украина пожинает плоды тяжелого возвращения в свою историческую нишу.
В связи с этим требуется противодействие непродуманным подходам к определению развития культуры военной безопасности. Разумеется, становится весьма актуальным создание механизма эффективного претворения в жизнь традиционных свойств культуры, с помощью которых военная политика прагматизма наций сможет остановить дальнейшее сползание мирового сообщества в пропасть.
По нашему суждению, методологическое значение и неординарная важность принципа объективности при анализе развития культуры военной безопасности обусловлены и тем, что за его игнорирование в конце концов приходится платить жизнями тысяч людей. Вот почему важно учитывать изме- нения в развитии международных отношений, расстановке политических и военных сил. Вместе с тем данный принцип помогает установить возможности более полного охвата условий и факторов, причин и следствий при рассмотрении исследуемого явления с разных сторон с точным учетом времени и места. Как и любая другая область культуры, культура военной безопасности требует принимать во внимание все обстоятельства и оценивать их с предельной конкретностью. Важно находить в противоположных позициях зерна истины, отделять их от плевел, искать разумные компромиссы при решении практических задач военно-политического характера, связанных с существующими в мире потенциальными, могущими перерасти в угрозы вызовами ценностям государств.
Поскольку развитие культуры военной безопасности происходит в условиях сложного переплетения объективных и субъективных факторов планетарного масштаба, непреложным остается принцип всеобщей связи и взаимозависимости явлений действительности . В нем преломляется взаимообусловленность процессов, их существования и развития. Этот принцип нацеливает на обнаружение связей между культурой военной безопасности и жизнью мирового сообщества, окружающей природной средой, внутренними элементами явления, заявленного в теме статьи. Находит ли отражение данное утверждение в деятельности субъектов военно-политической практики конца XX – начала XXI в.? По нашему суждению, и да и нет. Если это касается сильных мира сего, то такую взаимозависимость тщательно отслеживают и оборачивают в свою пользу и в ущерб тем, кого называют (зачастую несправедливо) «изгоями» человечества. К сожалению, когда возникает военно-политическая проблема планетарного масштаба, тут же появляется множество причин, якобы не позволяющих приступить к ее немедленному решению, или предлагается устранение возникшего противоречия старым, как мир, способом – огнем и мечом. Не чем другим, как недальновидностью следует назвать подобную «готовность» США и некоторых других государств решать сложные вопросы региональной и международной безопасности с позиции силы. По оценке Е.М. Примакова, «ошибаются те политики на Западе, которые исходят из такого видения <…> К чему приводит политика, не считающаяся с многополярным устройством современного мира, показали события начала XXI века» [23, с. 6, 27].
По мысли автора статьи, интегрированная в единый процесс динамики человечества, культура военной безопасности, безусловно, связана с планетарными военно-политическими отношениями и выступает как их часть. Если по мере развития международного социума возникает актуальная потребность в качественном и количественном преобразовании целого, то это, естественно, должно касаться и его части. Качественные характеристики определяются потенциальными вызовами культуре военной безопасности и условиями нового облика военно-политической обстановки, а количественные – соотношением сил на международной арене, источниками стратегических ресурсов и энергетической базой государства или региона. Следует иметь в виду: характеристики должны рассматриваться в единстве. Однако о каком единстве может идти речь, если общее ослабление России серьезно подорвало ее культуру военной безопасности (особенно катастрофичным в этом отношении было последнее десятилетие XX в.)? И сегодня оборонный бюджет страны в 25 раз меньше военных расходов США. Российские Вооруженные силы отстают в техническом отношении, хотя и занимают второе место в мире по количеству вооружений. Удельный вес современного оружия в нашей армии составляет 5–10% против 70–80% у армии США. Ресурсообеспеченность нашего солдата в 13,5 раз меньше американского и в 3,5 раза – китайского [25, с. 440].
При определении парадигмы развития культуры военной безопасности необходимо учитывать принципы развития и детерминизма явлений . Соблюдение данных принципов требует видеть в вооруженных конфликтах не только область стихии, случайностей, столкновения воли и сил. Здесь действуют объективные причинно-следственные связи, проявляются закономерности, которые следует познать и эффективно использовать при решении проблем культуры военной безопасности. Не менее актуальным видится и пристальное внимание не к самому бытию культуры военной безопасности, а к развитию ее познания. Такое двойственное значение роли принципов развития и детерминизма явлений способствует реализации их онтологического и гносеологического аспектов.
Обратимся, однако, к более детальному рассмотрению вопроса. Если бы противоборствующие стороны на самом деле придерживались требований двух вышеназванных принципов, то возможность превратилась бы в реальность, поскольку «запутанные» проблемы культуры военной безопасности разрешались бы с позитивным результатом. К сожалению, исследуемое явление остается в полосе забвения субъектов практики, которые в ликвидации вооруженных конфликтов используют, как правило, одно универсальное, по их разумению, средство – силу. В результате конфликтообразующая основа не локализуется, а расширяется, что вполне сравнимо с энергичным тушением костра, когда сильное воздействие на горящий материал приводит к его разбросу по более значительной территории. В такой ситуации, по оценке Т.В. Филатова, «в конце концов, будет найден не искомый эликсир жизни, а абсолютный экстракт смерти, к которому с необходимостью приводит любое насильственное действие» [30, с. 8]. По нашей оценке, прошлое и настоящее убеждают в ином: на «комплексное образование», каким является война, следует воздействовать системно несколькими или многими средствами. В результате такого влияния на конфликтообразующую основу, участников борьбы и инструменты вооруженного конфликта практически полностью глушится деструктивное явление. Однако если воздействие будет сконцентрировано в одном направлении, то оставшиеся без внимания остальные элементы конфликта создадут узлы напряженности в других регионах. Так, концентрация усилий США в Афганистане и Ираке (а России – в решении чеченского кризиса) исключительно на уничтожение инструмента конфликтов – незаконных бандформирований – на практике «вынесла» последние за пределы первоначальных зон и стимулировала противоречия как в конфликтообразующей основе, так и вне ее. По суждению ряда аналитиков, партизанско-террористическая война в Афганистане, Ираке, Чеченской республике еще будет продолжаться в ближайшие годы [29, с. 474]. И она действительно продолжается.
Таким образом, при реализации вышеназванных принципов важно проявлять «силу примера» планетарного сознания в обеспечении культуры военной безопасности, а не наоборот: «пример силы» в нагнетании международной напряженности, что с завидным упорством демонстрируют прежде всего Соединенные Штаты Америки. Это актуализирует потребность в анализе ряда противоречий: а) выражающих уровни адаптации исследуемого явления к условиям возникновения внешних и внутренних опасных вызовов, связанных с военной областью; б) между тенденциями развития элементов культуры военной безопасности, определяющих эффективность реализации практических целей и задач.
Кроме того, нельзя не заметить влияния на развитие культуры военной безопасности тенденций национализма, сепаратизма, территориальной разобщенности, которые порой перерастают в острые конфликты и способны вызвать взрыв. Подобная ситуация складывается из-за отсутствия достаточно разработанных международных правовых основ и институтов по регулированию военно-политических отношений. По нашему суждению, это усиливает деструктивный потенциал возможных конфликтов, в постоянной борьбе с которым актуализируется сопоставление показателей созидания и разрушения, что может позволить определить ориентиры развития материальных и духовных составляющих исследуемого явления.
Познание культуры военной безопасности предусматривает приращение ее материальных и духовных элементов на базе оценки реального потенциала в противодействии как внешним, так и внутренним негативным процессам. При этом парадигма развития культуры военной безопасности должна исходить из необходимости сохранения «корней» существования наций и повышения потенциала организационных основ военно-политической жизни или их кардинального реформирования. Вместе с тем, очень важно обеспечить внутреннюю и внешнюю сбалансированность экономического, политического, социального, духовного и собственно военного развития. По мысли автора статьи, все это будет способствовать:
-
– выявлению проблем исследуемого явления;
-
– определению основных ориентиров развития культуры военной безопасности;
-
– оценке ее реального и прогнозированию перспективного состояния;
-
– применению научных знаний в разработке и реализации практических рекомендаций, которые могут помочь в кардинальном исправлении состояния дел в военной области.
В связи с этим для эффективного проведения военной политики научную и практическую ценность приобретает не только осмысление теоретических взглядов на войну, но и глубокий анализ вооруженных конфликтов конца XX – начала XXI в. Исследователи не без основания сходятся во мнении о том, что мировые войны маловероятны (хотя возможны) и следует готовиться к локальным конфликтам малой интенсивности [8, с. 2–15; 26, с. 32–48]. Так, по мысли А.А. Ноговицына, «главная особенность содержания вооруженной борьбы <…> в конфликтах XXI века состоит в том, что новые формы военных действий можно охарактеризовать как объемные, охватывающие все сферы вооруженной борьбы (суша, море, воздух, космос)» (цит. по [8, с. 6, 15]). Внимательный ситуативный взгляд на данную проблему позволяет утверждать, что экономическое, электронное, психологическое, информационное и силовое воздействия будут осуществляться с нарастающей интенсивностью во времени и пространстве. Это позволит добиваться решительных результатов в кратчайшие сроки, лишать противника инициативы и свободы маневра.
При этом нельзя упускать из виду по меньшей мере два обстоятельства. Во-первых, закону развития подвержено все, в том числе и вооруженные конфликты. Вот почему генетически любое небольшое вооруженное столкновение предрасположено к большому конфликту с непрогнозируемыми последствиями. Условия перерастания различий в противоречия, последующее применение вооруженного насилия как способа их разрешения должны постоянно находиться в поле зрения ученых, военных и общественности, быть предметом основательной интеллектуальной проработки, если речь действительно идет о культуре военной безопасности. Во-вторых, геополитические особенности государств могут менять характер опасности. Например, положение России таково, что ее большое пространство практически приближено к реальным очагам вооруженных конфликтов. Если по отдельности последние не представляют для ее культуры военной безопасности серьезной угрозы, то в совокупности, по эффекту они могут не уступать региональной и широкомасштабной войнам. Уже поэтому объективный анализ вызовов, которые несут с собой конфликты, является необходимым условием их предотвращения, ориентации общественности на противодействие негативным факторам, способствует созданию разветвленной системы блокировки неблагоприятного развития событий.
При решении проблем культуры военной безопасности и приоритетов ее развития не менее важным необходимо признать принцип диалектического единства национального и интернационального . Объективная тенденция укрепления взаимосвязи военно-политических отношений в современных условиях определена масштабностью и сложностью планетарных и региональных проблем безопасности, разрешение которых реально только при интеграции усилий всех стран и народов. По мысли О.А. Белькова, «это фундаментальная человеческая потребность, ее обеспечение – извечная проблема нашего бытия, всегда актуальная для человека и любых его сообществ – от семьи до государства и мирового сообщества» [4, с. 30]. С одной стороны, человечество действительно все время пыталось обезопасить свой мир, что признают многие ученые, политики и военные, с другой – в представленном утверждении проявляется пессимистический взгляд на перспективы существования международного сообщества. В связи с этим актуализируется потребность в обращении и к другой оценке.
Важно отметить, что подобный подход необходим и к явлению, заявленному в теме статьи. Действительно, развитие культуры военной безопасности должно соответствовать объединению частей в целое. Кроме того, история уже не в первый раз предоставляет мировому социуму возможность прочувствовать на себе всю силу кризисных явлений в решении проблем культуры военной безопасности. К сожалению, в начале XXI в. субъекты военно-политической практики в очередной раз оказались «нерадивыми учениками» истории, поскольку государства «золотого миллиарда» продолжают упорно ставить свои интересы выше интересов мирового сообщества.
По нашему суждению, в складывающейся ситуации и мир, и Россия не готовы противостоять подобным испытаниям. В период разразившегося кризиса военно-политические игроки ломают функцио- нировавший в контурах государственных образований порядок, причем скорость разрушения прежних военно-политических отношений зачастую значительно опережает конструирование новых. В ряде стран это, в частности, наглядно проявляется в уничтожении традиционной идеологии, основанной на сакрализации родины и нации, и, естественно, в ослаблении таких ценностей, как патриотизм, за счет распространения альтернативных национальным предпочтений и идентификаций. При этом никакой четко оформленной и способной увлечь массы новой идеологии субъекты военно-политической практики не предложили. По справедливой оценке Л.А. Шестаковой, «баланс плюсов и минусов различен для разных стран, регионов, территорий и даже слоев общества» [33, с. 268]. В этом отношении и Россия оказалась в ряду тех государств, которые испытывают на себе больше «минусов», нежели «плюсов». Так, по мысли В.С. Буянова, «вокруг России пытаются создать “санитарный кордон”, осуществить “принцип анаконды”, то есть сдавливая ее геополитическое пространство. Просматривается линия на предъявление территориальных претензий к России как на Западе, так и на Востоке» [6, с. 356]. Из представленных выше суждений на поверхности оказывается важное умозаключение: в эпоху глобализации без кардинальной смены нравственного императива с позиции «я (мы) – лучше других» на утверждение «все в ответе за будущее человечества» проблема культуры военной безопасности для мирового социума так и останется извечной.
Таким образом, не сила, а разум призван быть основополагающим регулятором развития культуры военной безопасности в эпоху глобализации. Не военные, а политико-дипломатические средства должны превалировать при решении проблем во взаимоотношениях как внутри государств, так и на международной арене. Тем более, что истории известно немало примеров, когда войны предотвращались благодаря своевременному, тактичному, корректному и незримому для посторонних вмешательству профессиональной дипломатии [31, с. 22].
Все вышеназванные принципы представляют первую группу методологического процесса анализа культуры военной безопасности. Заметим, что данная группа выступает непременным, но недостаточным условием для объективного исследования феномена культуры военной безопасности.
Общенаучные методы исследования культуры военной безопасности
Вторую группу методологических оснований объединяют общенаучные методы: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование и моделирование. Позитивное влияние анализа проявляется при исследовании культуры военной безопасности, поскольку предмет нашего внимания оказывается «развернутым». Кроме того, в нем раскрываются существенные признаки, выделяются структурные элементы, обозначаются связи и отношения. Это трудоемкая, но необходимая работа, требующая немалых усилий.
Для нашего исследования не менее важен и другой общенаучный метод – синтез , с помощью которого возможно очертить контуры культуры военной безопасности, сопоставить ее элементы с целым. В результате проведения подобной операции открывается возможность выявления противоречия исследуемого феномена.
Метод сравнения занимает важное место при установлении сходства и различия изучаемых явлений и составляющих их элементов. Сравнение структурных элементов внутри культуры военной безопасности, культуры военной безопасности и культуры вообще позволяет вывести суждения для умозаключений (новых выводов).
Более глубокий теоретический уровень сравнения требует применения операции абстрагирования , что обусловлено многоаспектностью культуры военной безопасности. По нашей оценке, такой подход позволит снять сложность явления, проникнуть в его сущность. Вышесказанное означает, что при отсутствии абстрактного мышления выявление сущности культуры военной безопасности затруднительно.
Для выяснения прогностического развития культуры военной безопасности России нельзя отказываться от применения метода моделирования. С его помощью открывается возможность выявления проблем анализируемого явления, обоснования и представления приоритетов его развития, условий и моделей реализации в будущем. На уровне эмпирического исследования активно применяется ме- тод изучения и сравнения документов, обеспечивающий первичный (хотя и поверхностный) взгляд на культуру военной безопасности. Вне всякого сомнения, дальнейшая систематизация отечественных и зарубежных источников станет существенным заделом для эмпирической базы явления, заявленного в теме статьи.
Специальные принципы исследования культуры военной безопасности
Помимо гносеологических принципов и общенаучных методов важную роль в познании культуры военной безопасности играют специальные принципы, составляющие третью группу . Собственно говоря, они выступают ориентирами, обязательными правилами в управленческой деятельности военно-политических руководителей, институтов, органов и сил, занимающихся проблемами культуры военной безопасности. Особенность значительной части данных принципов состоит в том, что в формировании их содержания немаловажное значение имеет субъективный фактор. Они тесно связаны с объективными законами войны, строительства вооруженных сил, развития военного искусства. Однако то, насколько эта связь полно и предметно отражается в их содержании, зависит от эрудиции и творческого уровня субъекта познания, усилий нации по обеспечению своей культуры военной безопасности, компетентности военно-политических кадров. По нашему суждению, в качестве специфических принципов культуры военной безопасности в эпоху глобализации важно рассматривать следующие.
Первый принцип – безусловное обязательство в достижении необходимого уровня культуры военной безопасности применительно к личности, обществу и государству. По оценке С.С. Антюшина, «достижение высокого уровня военной безопасности требует, с одной стороны, определенной деликатности и толерантности, с другой – бескомпромиссности, высокой результативности и оперативности» [1, с. 123]. Действительно, так и должно быть. Однако непростая военно-политическая обстановка на рубеже XX – XXI вв. усложняет процесс поиска актуальных решений, ставит его в жесткие организационно-временные рамки. При более глубоком анализе данной обстановки становится очевидным, что понятия «деликатность», «толерантность», «транспарентность» растворяются в действиях большинства субъектов культуры военной безопасности.
По мысли автора статьи, страны достаточно легко разделились на развитые и отстающие. Первые беспощадно расправляются со вторыми. Иными словами, для многих народов раскрутился смертельный маховик. В эпоху глобализации локальные экономики и политические системы государств стали открытыми, капиталы перетекают из одной страны в другую, совершаются, не встречая никаких преград, всевозможные «оранжевые» революции, революции «роз», «тюльпанов». Заметим, такая ситуация приветствуется государствами «золотого миллиарда». И пока существует установившийся миропорядок, будут все так же выкачивать из отсталых стран капиталы, ресурсы, таланты, провоцировать экстремистские силы на совершение новых революций (за названием дело не станет – цветовая палитра богата). О деликатности и толерантности речь в данном случае не идет. Остаются бескомпромиссность и оперативность, однако во благо одних и в ущерб безопасности других. При таком подходе, к сожалению, не представляется возможным сконструировать планетарную (эффективную) культуру военной безопасности, поскольку интересы преуспевающих государств диаметрально противоположны интересам большинства наций и народов.
Вместе с тем, движение к безусловному обязательству в достижении необходимого уровня культуры военной безопасности является непременным условием качественной теоретической и практической работы по ее обеспечению. По нашему суждению, рациональное или иррациональное игнорирование вышесказанного приводит к проблемам в функционировании элементов исследуемого явления на национальном, региональном и глобальном уровнях. Культура военной безопасности любого государства, его территориальная целостность и суверенитет, защита жизни и здоровья его граждан, их созидательного труда должны быть обеспечены при любых обстоятельствах. Следует считать непреложным, что любые деструктивные действия по этим первостепенным вопросам предполагают только одно – развал и уничтожение государственного образования. В связи с этим при военном строительстве в фокусе внимания субъектов практики культуры военной безопасности должно находиться именно безоговорочное решение стоящих задач. Иными словами, безусловность в обеспечении эффективного развития культуры военной безопасности выступает приоритетом в деятельности государств и народов, основой любой теоретической, этической, организационной конструкции оборонного характера.
Второй принцип культуры военной безопасности в эпоху глобализации предполагает неделимость культуры военной безопасности на прогрессивные и регрессивные составляющие. Словом, никто не должен иметь права обеспечивать развитие национальной, региональной и глобальной культуры военной безопасности за счет других. В связи с этим по меньшей мере странно звучат оценки военно-политической и экономической обстановки в одной из работ Э.Г. Кочетова: «современный мир срочно переформатировал понятия “развитие” и “безопасность”: геоэкономика способна решать проблемы безопасности экономическим путем» [14, с. 16]. Конечно, в данном утверждении есть немалый резон, поскольку в тандеме «экономика – политика» приоритет, очевидно, необходимо отдавать первой составляющей. Однако «мир опасен – тень глобального конфликта как отголоска “холодной войны”, вкупе с новейшими вызовами и угрозами не могут не вызывать тревогу мирового сообщества» (Там же). Не противоречит ли одно суждение другому? Действительно, без устранения «тревоги мирового сообщества» вряд ли возможно геоэкономическое решение проблемы безопасности вообще и культуры военной безопасности в частности.
По нашей мысли, культура военной безопасности, основанная на международном праве, по существу была разрушена еще в 1999 г. агрессивным нападением НАТО на Югославию. В связи с этим акции международных террористов против США 11 сентября 2001 г., строго говоря, произошли в обстановке развалившейся конфигурации мирового обустройства, когда нарушать, с точки зрения права, было уже нечего. Иными словами, террористы действовали на основе реального прецедента 1999 г., к сожалению, в целом принятого и одобренного мировым «цивилизованным» сообществом. В свою очередь и военные действия США в Ираке и Афганистане происходят в то время, когда миропорядок, основанный на международном праве, уже давно не претворяется в жизнь. Согласно Н. Хомскому, «в результате весь мир лишний раз убедился в том, что человечество вступило в новый век, где, как прежде, приоритетными выступают не принципы разума и гуманизма, и даже не нормы международного права, а фактор силы, который делает планету еще более хрупкой и беззащитной» [32, с. 24].
Следует заметить, что принцип неделимости безопасности уже провозглашен на глобальном уровне в качестве политического обязательства. Однако политический характер данного обязательства явно недостаточен, его важно сделать научно обоснованным и юридически обязывающим. Готовы ли субъекты военно-политической практики объявить принцип неделимости культуры военной безопасности универсально применимым в Евро-Атлантике? Пока и США, и ведущие страны Европы уклоняются от ответа на этот животрепещущий вопрос, но культура военной безопасности на планете в начале XXI в. требует его незамедлительного решения.
По суждению С.В. Кортунова, «важно по-новому посмотреть на данную проблему и, прежде всего, отказаться от устаревших подходов» [12, с. 379]. Ученый, несомненно, прав. Поскольку мир не стал более безопасным, необходимы действительно современные решения, четкие научные и юридические рамки уже имеющихся политических обязательств, не декларации и призывы, а именно международно-правовой прорыв, в том числе закрепляющий принцип: не обеспечивать свою культуру военной безопасности за счет культуры военной безопасности других.
Необходимо соблюдать и третий принцип культуры военной безопасности в эпоху глобализации – принцип опережающего воздействия для своевременного разрешения противоречий культуры военной безопасности. Его требование заключается в необходимости адекватно, оптимально по времени и интенсивности реагировать на процессы зарождения угроз. По нашей оценке, гражданские войны, равно как афганские, иракские, чеченские события, конфликты в Южной Осетии и Абхазии, Северной Африке подтверждают истину: конструктивный итог приобретает такое разрешение противоречий культуры военной безопасности, при котором не только масштаб, сила управляющего воздействия, но и его оперативность отражает характер, размах и скорость нарастания вызовов. С этой точки зрения трудно переоценить значение монографии С.В. Кортунова «Современная внешняя политика России. Стратегия избирательной вовлеченности». В своих суждениях автор, в частности, обосновывает необходимость для России при проведении политики сокращения разрыва с ведущими государствами планеты не изолироваться от мира, а быть активным участником культуры военной безопасности. «Если мир стремится к транснационализации, то, препятствуя ей, можно только ухудшить условия будущего вступления в систему мировых связей, – утверждает С.В. Кортунов. – Это не ответ на вызовы глобализации, а отказ от развития, стремление сохранить обособленность, которая все равно не может быть абсолютной и в итоге превращается в одностороннюю зависимость» [13, с. 17]. В этой цитате – один из основных элементов кредо автора. Забегая вперед, заметим, что обоснование необходимости для России открытости с другими государствами во всех сферах жизнедеятельности совмещено у С.В. Кортунова с требованием руководствоваться при анализе вызовов культуре военной безопасности долгосрочными потребностями страны, а не амбициями политиков или бизнесменов.
Вместе с тем, при всем своем аналитическом мастерстве и знании современных военно-политических отношений С.В. Кортунов не дает сколько-нибудь ясных ответов на некоторые вопросы, которые сегодня стоят перед российской (и не только) культурой военной безопасности. По нашему суждению, следует считать это косвенным подтверждением подлинной остроты данных проблем. Например, автор пишет об отношениях России и НАТО: «Конечно, прямая военная угроза со стороны НАТО равна нулю. Но если не будет создан механизм реального партнерства между Россией и НАТО (а это по-прежнему не сделано) и пойдет очередная волна его расширения, то разделительная линия между Европой и Россией пройдет уже по границе Грузии, Украины и Молдавии, что будет означать полный провал нашей европейской политики» [13, с. 104]. По нашему мнению, в двух предложениях кроется множество поводов (по меньшей мере – два) для философской дискуссии. При этом заметим, точки зрения могут оказаться противоположными. Первый вопрос, на который С.В. Кортунов отвечает не всегда ясно: если военной угрозы нет, зачем России протестовать? Ответом на него может быть нынешний характер альянса: страны стремятся вступить в НАТО во многом для подтверждения того, что их исторический выбор не является общим с Россией. Более того, до сих пор руководство альянса не объявило цели, для которых альянс существует в XXI в. Несогласованность по поводу военных действий в Афганистане, точнее говоря, неспособность общими усилиями победить талибов ставит крест на всех недавних разговорах о новых задачах и принципах функционирования НАТО. Получается, что у блока не остается других смыслов, кроме того, который в него вкладывают новые члены и кандидаты из государств Восточной Европы, а вместе с ними и многие политики и эксперты на Западе. Смысл этот далеко (по крайней мере во многом) не пророссийский. Это в свою очередь создает военную угрозу не только для России, но и для глобальной культуры военной безопасности. Представим, например, что было бы принято политизированное решение о вступлении в альянс Грузии до августа 2008 г. При таком развитии событий провокация режима М. Саакашвили однозначно привела бы к военному конфликту России и НАТО. Пока для предотвращения такого варианта развития событий руководство альянса и составляющие его страны обращаются к здравому смыслу.
Кроме того, нечетко выраженная С.В. Кортуновым позиция позволяет спорить с ним и по поводу того, что дальнейшее расширение блока станет провалом для российской военной политики. Безусловно, достижением такой вариант назвать нельзя. Однако не будет ли очередная волна расширения способствовать еще большему ослаблению, а возможно, и роспуску НАТО? Если сегодня подобная перспектива кажется несколько тривиальной (даже утрированной), то, как замечает С.В. Кортунов, в Западной Европе и США научились распоряжаться финансами, так что на модернизацию и поддержание боевой готовности, скажем, грузинской (или молдавской) армии тратить их просто откажутся. Для России же очередное расширение НАТО, если оно произойдет, может оказаться решающим поводом окончательно выстроить свое взаимодействие со странами ближнего зарубежья на жестких принципах военно-политических отношений XXI в. Культура военной безопасности нашей страны от этого вы- играет, хотя к данному утверждению следует относиться осторожно, а военно-политические субъекты новых участников альянса окажутся объектами критики со стороны простых граждан этих государств за неумение выстроить выгодное сотрудничество с Россией. И все-таки необходимо понять, представляет ли угрозу для России и мира потенциальная возможность расширения альянса. С нашей точки зрения, на этот вопрос следует ответить утвердительно. С одной стороны, слабость и аморфность НАТО в современных условиях является не абсолютным, а относительным критерием по сравнению с силой и слаженностью Вооруженных Сил России и стран СНГ, с другой – кризис когда-нибудь закончится, и если сегодня у Запада не хватает денег на модернизацию армий потенциальных членов блока (хотя на Грузию хватает), то завтра все может измениться. Непонимание этого, признание расширение НАТО на Восток безобидным не просто ошибочно, а опасно и даже преступно! Признаем справедливым и своевременным вопрос О.А. Белькова: «Если согласиться с такой “шапкозакидательской” позицией, то не вернемся ли мы к практике военного строительства приснопамятных 90-х годов?» [5, с. 187]. Верна и более категоричная оценка А.И. Дырина: «Россию сегодня выталкивают из Европы, ее обносят “защитным” поясом <…> И все это на фоне расширения НАТО на Восток, других политических и военных, военно-политических уступок, угроз и вызовов» [9, с. 65].
Сущность четвертого специального принципа – факторного – состоит в том, что культура военной безопасности в современных условиях имеет многоуровневое проявление, испытывая воздействие глобализационных процессов. Мы выделяем три уровня: национальный, региональный и глобальный.
На национальном уровне культура военной безопасности испытывает воздействие отечественного социума, который уже находится в глобальном пространстве. Кроме того, состояние исследуемого явления во многом зависит от способности государства обеспечивать определенную ступень его развития. Для анализа культуры военной безопасности, безусловно, важно это учитывать. Однако при учете только данного фактора полнота исследования представляется недостаточной, поскольку в отношения (горизонтальные и вертикальные) вступают культуры военной безопасности государств и обществ, расположенных в конкретном регионе планеты. Естественно, в эпоху глобализации подобные связи отражаются на функционировании и развитии феномена, избранного предметом исследования.
Мы уже отмечали, что издавна привычная целесообразность западной культуры, основанная на научном восприятии действительности, определяла пересмотр ее системы знаний о закономерностях развития общества и мышления, связанных с толерантностью и транспарентностью по отношению к другим культурным типам. Данное суждение проецируется и на культуру военной безопасности в глобальном масштабе – ее третий, существенный уровень.
Безусловно, на каждом вышеперечисленном уровне исследуемое явление подвергается воздействию со стороны глобализационных процессов. В такой ситуации факторный принцип дает возможность расширить методологическую основу исследования. Необходимо заметить, что качество реализации четвертого принципа окажется под сомнением, если культура военной безопасности будет осуществляться не равноправными партнерами, а только избранными (например, глобализация по-американски или по-российски). За будущее планеты необходимо нести общую ответственность, поскольку в эпоху глобализации не связанная воедино культура военной безопасности без учета национальных особенностей обречена на провал.
Таким образом, обоснованные специальные исходные положения культуры военной безопасности тесно взаимосвязаны, их выдвижение не противоречит известным гносеологическим и общенаучным принципам и не умаляет их значимости. Определение всех вышеназванных принципов культуры военной безопасности актуально для субъектов практики.
Список литературы Методологические принципы исследования культуры военной безопасности в их социально-философском анализе
- Антюшин С.С. Военная безопасность как фактор стабильности российского общества (социально-философская концепция). М.: ВУ, 2004.
- Бажуков В.И. Понятие военной культуры: проблемы становления//Социально-гуманитарные знания. 2009. №1.
- Бельков О.А. Военная политика и стратегия как высший уровень управления оборонной сферой страны//Безопасность Евразии. 2009. №1.
- Бельков О.А. Предварение к теории (концепции) национальной безопасности//Военно-философский вестник. 2008. №2.
- Бельков О.А. Эволюция войн и представлений о них (конец XX -начало XXI вв.)//Безопасность Евразии. 2009. №4.
- Буянов В.С. Геополитическое окружение современной России//Безопасность Евразии. 2007. №2.
- Вершилов С.А. Культура военной безопасности России (социально-философский анализ): автореф. дис. канд. филос. наук. М., 1998.
- Горбунов В.Н., Богданов С.А. О характере вооруженной борьбы в XXI веке//Военная мысль. 2009. №3.
- Дырин А.И. Безопасность? -Только с Россией!//Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Серия «Философские науки». 2009. Вып. №15. №2. М.: Изд-во МГОУ, 2009.
- Злобин Н.В. Второй новый миропорядок: Геополитические головоломки. М.: Эксмо, 2009.
- Караганов С.А. Мир вокруг России: 2017. Контуры недалекого будущего. М.: Культурная революция, 2007.
- Кортунов С.В. Новая архитектура европейской безопасности//Безопасность Евразии. 2009. №4.
- Кортунов С.В. Современная внешняя политика России. Стратегия избирательной вовлеченности. М.: Изд. дом Высш. шк. экономики, 2009.
- Кочетов Э.Г. Геоэкономика, стратегия России и Президентское послание (К выходу в свет статьи Президента России Д.А. Медведева «Россия, вперед!»: свежесть, ясность, убежденность)//Безопасность Евразии. 2009. №4.
- Кочетов Э.Г. Кризис без прикрас: человек и человечество забинтовано «общественным договором». Вопрос тысячелетнего ранга -как вырваться из этих «застенков»?//Безопасность Евразии. 2009. №2.
- Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Глобальная империя Зла. М.: Крымский мост-9Д, 2001.
- Макаренко Д.И., Хрусталев Е.Ю. Концептуальное моделирование военной безопасности государства. М.: Наука, 2008.
- Михалкин Н.В. Народ и власть в системе национальной безопасности России. М.: АПК и ППРО, 2006.
- Моздаков А.Ю. Понятие безопасности в классической и современной философии//Вопр. философии. 2008. №4.
- Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь Разума. М.: Яз. рус. культуры, 2000.
- Назарова Г.Ф. Культурный выбор третьего тысячелетия//Безопасность Евразии. 2002. №2.
- Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина XX -начало XXI века). М.: ИИК «Российская газета», 2006.
- Примаков Е.М. Мир без России? К чему ведет политическая близорукость. М.: ИИК «Российская газета», 2009.
- Рыбалкин Н.Н. Философия безопасности. М.: Моск. психол.-соц. ин-т, 2006.
- Серебрянников В.В. Вооруженные силы России в меняющихся условиях: прогностические аспекты//Безопасность России в XXI веке. М., 2006.
- Серебрянников В.В. Упущенные возможности предотвращения войны//Свободная мысль. 2009. №3.
- Столярова Н.К. Уроки нашей жизни. М.: Полимаг, 2001.
- Тюшкевич С.А. Новый передел мира. М.: Проспект, 2003.
- Фартышев В.И. Последний шанс Путина (Судьба России в XXI веке). М.: Вече, 2005.
- Филатов Т.В. Постмодернистская наука и экзистенциальные перспективы современной цивилизации/под общ. ред.
- проф. О.И. Кирикова. Воронеж, 2008. 31. Философия войны/под общ. ред. А.Б. Григорьева. М., 1995.
- Хомский Н. Новый военный гуманизм: Уроки Косова/пер. с англ. Л.Е. Переяславцева. М.: Праксис, 2002.
- Шестакова Л.А. Конфликт цивилизаций: глобализм и национальная безопасность России//Безопасность Евразии. 2009. №1.