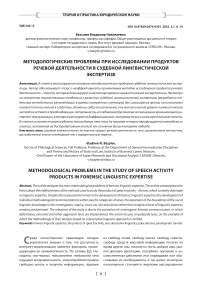Методологические проблемы при исследовании продуктов речевой деятельности в судебной лингвистической экспертизе
Автор: Базылев Владимир Николаевич
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 3-1 (69), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются основные методологические проблемы судебной лингвистической экспертизы. Автор обосновывает тезис о неэффективности применяемых методик исследования продукта речевой деятельности - текста, которые доминируют в настоящее время в лингвистической экспертологии. Несмотря на множество положительных тенденций в развитии судебной лингвистической экспертизы (разработка отдельных методических рекомендаций в рамках конкретных категорий дел, расширение границ использования лингвистических знаний в следствии, дознании, суде), описательный, а не аналитический уровень лингвистических экспертиз остается преобладающим. Актуальность исследования обусловлена активизацией криминогенной интернет-коммуникации, в которой реализуются диффамационные, экстремистские и иные агрессогенные тексты. В статье основное внимание уделено поликодовым текстам, на примере которых верифицируется методика их анализа, основанная на дистрибутивном анализе как основном дисциплинарном подходе.
Судебная лингвистическая экспертиза, продукт речевой деятельности, текст, дескриптивная лингвистика, дистрибутивный анализ поликодовый текст, парадигмальный перенос
Короткий адрес: https://sciup.org/14126371
IDR: 14126371 | УДК: 343.13 | DOI: 10.47629/2074-9201_2022_3.1_6_14
Текст научной статьи Методологические проблемы при исследовании продуктов речевой деятельности в судебной лингвистической экспертизе
Среди отечественных правоведов сегодня укрепляется мнение о том, что доступность интернет-коммуникации является фактором, провоцирующим ее криминогенность. По словам В.Д. Никишина, «во-первых, пользователи глобальной сети ощущают вседозволенность, злоупотребляют правом свободно искать и получать информацию, правами на свободу слова, свободу мысли, свободу совести, свободу средств массовой информации, посягая на права других лиц, посягая на честь, доброе имя, умаляя деловую репутацию, оскорбляя, призывая к насильственным действиям или оправдывая или обосновывая их необходимость и так далее; во-вторых, пользователи становятся жертвами массированных информационных атак, направленных на распространение фейковых, диффамационных сведений, экстремистско-пропагандистской, суицидально-пропагандистской и иной деструктивно-криминогенной информации» [21, с. 81]. Это, в свою очередь, выдвигает на повестку дня новые проблемы, связанные с теорией и практикой производства, в том числе, судебной лингвистической экспертизы.
Так, в связи с меняющейся ситуацией Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте России в июне 2022 года выпустило Методическое письмо «Об особенностях судебных лингвистических экспертиз информационных материалов, связанных с публичным распространением под видом достоверных сообщений заведомо ложной (недостоверной) информации». В нем, в частности, говорится: «Настоящее методическое письмо применяется в судебной лингвистической экспертизе при исследовании материалов (видеозаписей, изображений, текстов) по делам, связанным с публичным распространением под видом достоверных сообщений заведомо ложной (недостоверной) информации. Экспертиза назначается, когда возникает необходимость установить факты, связанные с содержанием и направленностью этих материалов. Лингвистический анализ создает объективную основу для последующей правовой оценки материала. На экспертизу могут быть представлены информационные материалы (тексты, изображения, аудиофайлы, видеофайлы, а также их комбинация), которые фиксируют речевую и коммуникативную деятельность и поведение чело том числе являются продуктами такой деятельности.
Объектом исследования является сообщение, имеющее звучащую и/или визуальную форму (вербальная, невербальная информация или их совокупность), размещенное в любом информационном пространстве, в том числе сети Интернет, извлеченное из него и зафиксированное на различных материальных носителях (на бумаге, на оптических носителях – аудиозаписи, видеозаписи и др.).
Объект экспертизы исследуется только с учетом контекста его размещения и той коммуникативной ситуации, в которой он использовался. На экспертизу могут быть представлены любые материалы, которые фиксируют речевую, коммуникативную деятельность человека» [17, с. 2-3].
Одна из задач названного методического письма, помимо прочих, – предупредить экспертов-практиков от ошибок, которые могут быть ими допущены. Дело в том, что лингвистические экспертизы могут преследовать различные цели: научно-практические и юрислингвистические. Это имеет принципиальное значение как для определения целей, стоящих перед экспертом, так и для результирующей части самой экспертизы. Е.И. Галяшина предлагает четко разгра- ничивать деятельности различных специалистов: «лингвиста, проводящего анализ текстовых объектов в различных научно-практических целях, и судебного эксперта, осуществляющего лингвистические исследования в судопроизводстве в целях установления фактов, имеющих значение доказательств» [9, с. 30].
Таким образом, нельзя путать в этом случае «лингвистическую» и «судебно-лингвистическую» экспертизу. Неразличение целевой установки приводит к серьезным ошибкам, которые могут иметь негативные последствия не только научного, но и общественного характера. По замечанию Е.В. Новожиловой, «деятельность в сфере юрислингвистических исследований сегодня подобна игральному автомату: стороны судебного разбирательства могут вновь и вновь дергать его ручку, инициируя повторное исследование в надежде получить устраивающий их результат» [22, с. 486].
Сама дискуссионность, которая свойственная научным подходам анализа продуктов речевой деятельности, должна быть минимизирована при экспертизе текстов, чтобы повысить авторитетность ее результатов. Решение указанных проблем представляется возможным с учетом пересмотра самого принципа подхода к судебной лингвистической экспертизе.
Рассматривая доказывание как процесс установления истины, то есть процесс познания, А.Р. Белкин полагает, что «следует исходить из положения о всеобщности процесса познания, из того, что нет и не может быть специфически судебного познания истины. Субъект доказывания, устанавливая при помощи доказательств обстоятельства дела, точно так же, как и в любых других областях человеческой деятельности, переходит от чувственного восприятия отдельных фактов, признаков, свойств тех или иных объектов, играющих роль доказательств, к логическому осмыслению воспринятого, к рациональному мышлению» [5, с. 6].
В контексте сказанного выше, основной, так пока до конца не разрешенной, методологической проблемой при исследовании продуктов речевой деятельности в судебной лингвистической экспертизе остается механика переноса знаний из одной сферы познания в другую, из лингвистики в криминалистику.
По мнению Е.В. Милякиной, «с гносеологической точки зрения, мы наблюдаем так называемое онаучивание практики, которое не стоит смешивать с термином обнаучивание практики, означающим возрастание роли науки во всех сферах жизнедеятельности. Онаучивание практики следует рассматривать как попытку получения знаний об объекте на основе оценки результатов повседневной деятельности по-средствам здравого рассудка. В свою очередь, научный подход к процессу познания, в отличие от онаучивания практики, предполагает описание, объяс- нение и предсказание явлений и процессов действительности на основе закономерностей, установленных наукой» [18, с. 13].
Механический перенос методик исследования текста из лингвистики в практику судебной лингвистической экспертизы не обеспечивает доверие к результатам экспертизы у всех сторон процесса. Это связано с тем, что лингвистика текста имеет своими истоками герменевтическую практику, которая занимает пограничное положение между научным и вне-научным знанием. В результате пока не сформирована именно научная парадигма судебной лингвистической экспертизы, основными элементами которой должны быть: использование логически корректной формы для оценки и интерпретации результатов экспертизы (доказательств); использование методов, основанных на релевантных данных, количественных измерениях и статистических моделях; экспериментальное тестирование степени достоверности и надежности судебно-экспертных оценок в условиях, соответствующих рассматриваемому делу.
Так, авторы методических рекомендаций по проведению судебно-автороведческих экспертиз [11] в целом выходят за границы лингвистики как отрасли научного познания языка и эклектически привносят в экспертную практику недифференцированный набор самых различных приемом работы с текстом, взятых из психолингвистики, стилистики, лингвоперсоноло-гии, теории речевых актов. Тезис авторов о том, что «методология современной судебной лингвистики должна основываться на психолингвистических понятиях «языковая личность», «языковое сознание», «речевая деятельность», а речевые навыки должны рассматриваться как производные речевой деятельности говорящего», не позволяет рассматривать его как вектор переноса познавательной модели из лингвистики в криминалистику. Разнородные основания для анализа одного и того же языкового материала приводят к тому, что состоявшийся факт действительности – текст и серия его признаков – исследуется с использованием эклектической совокупности разных методик, относящихся к несопоставимым научным методологическим парадигмам. Тем самым, разрушается основной эпистемический принцип уликовой парадигмы, в рамках которой появилась и до сих пор продолжает существовать судебная экспертная теория и практика, представляющие собой систему принципов и методов познания материальных и идеальных следов в механизме преступной/противо-правной деятельности.
Обозначенная выше эклектика обусловлена, по-видимому, историческими особенностями формирования отечественной экспертной лингвистической и автороведческой практик, а именно заимствованием уже имеющегося опыта, в первую очередь англо- саксонского. Сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать, как типично постмодернистскую: пытаясь синтезировать и апробировать все известные подходы в мировой и отечественной экспертной практике, специалисты механически синтезируют или переносят подходы и их отдельные фрагменты на объект экспертизы, что превращает теоретическую и практическую базу современной отечественной лингвистической и автороведческой экспертизы во фрагментарную и мозаичную структуру, в некий коллаж.
Последнее имеет следствием тот факт, что в экспертном исследовании, вопреки требованию ст. 25 «Заключение эксперта или комиссии экспертов и его содержание» Федерального закона от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», зачастую отсутствует или носит формальный характер описание технологии (методики) экспертного исследования, включающее рекомендованную (сертифицированную) экспертную методику, или ссылки на научную литературу, содержащую рекомендации по исследованию подобных объектов.
С нашей точки зрения, обсуждаемая в статье проблема, помимо прочего, связана с методологической проблемой соотношения дисциплинарности и междисциплинарности, в недостаточной научной проработанности используемых исследовательских методик и в произвольном неадаптированном переносе исследовательских методов из одной научной парадигмы – лингвистики, в другую – криминалистику.
Именно отсюда проистекают основные ошибки, допускаемые специалистами в ходе судебной лингвистической экспертизы, которые подробно были проанализированы в фундаментальной работе «Судебная экспертиза: типичные ошибки» [27], но в последнее время стали предметом специального внимания Минюста, как, например, в деле Данилы Михеева [19].
Таким образом, приходится признать, что судебная лингвистическая экспертиза сегодня носит исключительно междисциплинарный характер. Последнее приводит к тому, что эксперты ориентируются на принятие качественных решений, так как в основе процедуры принятия решения лежит серия расплывчатых категорий.
Это, в свою очередь, опредмечивает классическую оппозицию: «возможны лишь две взаимоисключающие системы оценки доказательств – формальная и на основе внутреннего убеждения (свободная)» [23, с. 118]. Однако, как считает С.Н. Нефедов и представители его школы, которая является ведущей в судебноэкспертной практике в Республике Беларусь, оценка доказательств на основе внутреннего убеждения применяется из отсутствия альтернативного способа. В противовес этому формальные подходы (напр. Бай- есовский подход к оценке доказательств) позволяет использовать количественные параметры, характеризующие выводы эксперта при оценке совокупности доказательств. В серии своих публикаций С.Н. Нефедов обосновывает эффективность количественных подходов в работе эксперта, что гарантирует стандартизации соответствующих выводов [20, с. 187-188].
Поясним также следующее: особенность междисциплинарного подхода состоит в том, что он допускает прямой перенос методов исследования из одной научной дисциплины в другую. Разумеется, на каком-то этапе становления нового дисциплинарного подхода этот этап неизбежен. Он ограниченно эффективен, прежде всего, для решения конкретных дисциплинарных проблем, в решении которых какая-либо конкретная дисциплина испытывает концептуальные и методологические трудности. Но далее с неизбежностью приходит этап собственно дисциплинарного подхода, который, обозначив конкретную область (в нашем случае – языковую) как предмет своего исследования, позволит провести аналитическое исследование, причем при использовании собственной методики.
Таким образом, актуальная задача сегодня заключается в том, чтобы перевести судебную лингвистическую экспертизу из формата междисциплинарного в дисциплинарный формат. Основная проблема при этом – согласование методики анализа языкового материала. Здесь возможны два пути: за счет вну-тридисциплинарного переноса методики, когда в сферу исследования включаются новые типы объектов, что не требует изменения оснований дисциплинарного подхода; либо за счет, как это именует В.С. Степин, «парадигмальной прививки, то есть переноса представлений специальной научной картины мира, а также и норм исследования из одной научной дисциплины в другую» [26, с. 285].
Возможность согласования дисциплинарной методики анализа языкового материала в судебной лингвистической экспертизе мы обсуждаем на материале работы экспертов-лингвистов с так называемыми демотиваторами.
Демотиватор – это один из видов поликодовых текстов, компоненты значения которых исследуются посредством единства анализа вербальных и невербальных компонентов. Согласно статистике в последнее время они все чаще становятся объектами судебной лингвистической экспертизы по материалам экстремистской направленности [1, с. 144]. Задача эксперта – лингвистическое исследование представленного поликода с целью обнаружения в нем криминалистически значимой информации. В конкретном случае – установление наличия в тексте демотиватора высказываний, содержащих негативную оценку и призывающих к совершению насильственных действий.
В соответствии с имеющимися на сегодняшний день методическими рекомендациями для выполнения поставленной задачи эксперт оперирует методиками, среди которых недифференцировано присутствуют семантико-синтаксическоий и лексико-семантическоий анализ, метод компонентного анализа слов и концептуальный анализ, анализ коммуникативной ситуации текста и пропозициональный анализ, функционально-прагматический анализ и ряд других [4; 12; 14].
К сожалению, по признанию самих экспертов, большинство из этих методик не работает: «Сложность исследования, например, демотивационного плаката заключается в высокой степени имплицит-ности смысла его вербального компонента… В результате компонентного анализа экспертом не могут быть были установлены высказывания, содержащие эксплицитно выраженную негативную оценку представителей группы 2 по отношению к представителям группы 1… Функционально-прагматический анализ и компонентный анализ также не дают эксперту оснований утверждать о наличии в письменном тексте негативной оценки или призыва к насильственным действиям…» [1, с. 147].
Это, в свою очередь, предопределяет объективные сложности лингвоэкспертной работы в целом. По мнению А.Б. Бушева, «методы, какие лингвист использует при экспертизе, – это самый спорный вопрос, так как другой исследователь должен совершенно независимо приходить к тем же результатам. Неверно говорить, что основным методом сегодня является метод семантики, также неверно было бы говорить об интент-анализе, о прагматике, так как их характеризует субъективность и отсутствие метода как такового» [6, с. 144].
Достаточно странным звучит на фоне сформулированного перечня проблем предложение не по поиску методики, который предала бы экспертизе дисциплинарный статус, а предложение специалиста: «Мы полагаем, что оптимальным решением в сложившейся ситуации станет проведение междисциплинарного исследования с привлечением не только лингвистических, но и других методов, среди которых, например, психологический эксперимент, социологический опрос и так далее» [1, с. 148].
Если обратиться к конкретным рекомендациям, которыми обильно снабжаются практикующие лингвисты-эксперты, то фронт работы эксперта с демотиваторами приобретает ничем не ограниченный характер. Здесь и таксономия, то есть классификация демотиваторов на основе видов языковой игры [8]; и установление характера смысловых связей между компонентами демотиватора [25]; и установление изменения смыслового восприятия вербального текста [7].
Однако в попытках реализовать все это в своей работе, практикующий эксперт обрекает себя на выход за пределы своей компетенции, что противоречит ч. 3 ст. 26.4 «Экспертиза» КоАП РФ и ст. 8 «Объективность, всесторонность и полнота исследований» Федерального закона от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
С нашей точки зрения, проблема состоит в следующем: вместо того, чтобы осуществлять работу по приданию лингвистической экспертизе дисциплинарного характера, специалисты, по основному своему образованию являющиеся филологами, продолжают апробировать механический перенос методик и их произвольную комбинацию.
Что же мы получаем в итоге того, что постфактум именуется судебной лингвистической экспертизой:
-
• описание языкового материала вместо анализа, что по мнению Е.В. Милякиной, «означает подмену методов, обрекающее исследование на провал, чему особенно способствуют приемы аналогии, редуцирования, связанные с переносом особенностей и характеристик одной предметной сферы на другую, либо принципиальное их упрощение» [18, с. 13];
-
• смысловую интерпретацию текста, что выводит эксперта из парадигмы лингвистики в парадигму психологии, психолингвистики (что и произошло с неудачным опытом формирования методической базы автороведческой экспертизы в работах В.И. Батова и Н.Н. Крюковой [2, с. 443-455], когнитивной психологии или герменевтики [16]);
-
• сугубо филологические подходы к работе с языковым материалом, как в случае с так называемой методикой «фактологического квадрата» [15, с. 132-145];
-
• подмену методики терминологическими играми, что, как считает Н.В. Козловская, «связано с процессами формирования и функционирования метаязыка современной судебной лингвистической экспертизы; в лингвистическом сообществе нет полного единства мнений относительно содержания основных терминов. Используемых в экспертном заключении; несовпадение позиций экспертов, различие в понимании смысла понятия в ряде случаев приводят к серьезным ошибкам в квалификации содержания высказывания. Вторая проблема связана с возникновением смежных понятий; этот процесс обусловлен излишней подвижностью, открытостью терминологической системы формирующейся области знания» [13, с. 144].
Все это провоцирует практикующего эксперта-лингвиста на работу с расплывчатыми категориями и создает проблему принятия решения, то есть ориентация эксперта на качественные понятия в тексте, а также предписанная (инструктивная) ориентация эксперта на описательные признаки образа текста.
Не ограничиваясь только критикой наличной ситуации, ответим на вопрос: возможно ли формирование сугубо дисциплинарного подхода при нынешней ситуации в судебной лингвистической экспертизе? С нашей точки зрения, если принять приведенный выше тезис о «парадигмальной прививке, такое вполне возможно. Однако нам необходима принципиальная замена описательной процедуры на аналитическую. Такой процедурой может стать дистрибутивный анализ. Напомним, что дистрибутивный анализ был разработан в рамках дескриптивизма [10]. В данном случае методически релевантным является то, что исследуются только структуры плана выражения в отвлечении от плана содержания. С общеметодологических и гносеологических позиций это допустимо, если принять тезис об односторонности языкового знака. Однако дистрибутивный анализ не может считаться чисто формальным, так как при этом анализируются формы, несущие информацию и сообщение. Но в самом исследовании аналитические операции ведутся преимущественно над осмысленными формами, а не над смыслом форм. Поэтому такой анализ следует считать формальным, а не семантическим.
Для нужд судебной лингвистической экспертизы он подходит, так как применим на всех уровнях языка, в большинстве своем – на уровне текста, так как конечной целью выступает комплексный анализ единства всех его структурных уровней.
Напомним также, что основной алгоритм дистрибутивного анализа сводится к двум операциям: выявлению языковых единиц и определению их дистрибуции относительно друг друга. Методика предполагает анализ двух основных видов дистрибуции: дополнительной и контрастной. Дополнительная дистрибуция характеризует тот или иной элемент языка в его специфических, свойственных только ему окружениях, в которых другие сравниваемые элементы встречаться не могут. Контрастная дистрибуция характеризует элементы языка, выступающие в тождественных окружениях, но при этом элементы дифференцируются по значениям. В качестве особого вида дистрибуции выделяется свободное варьирование элементов, при котором в тождественных окружениях они не обеспечивают дифференциации значения.
Техника дистрибутивного анализа несложна, но требует систематичного и точного учета наблюдаемых фактов. Эксперту можно рекомендовать составлять матричные таблицы по мере работы с текстом.
Следующим шагом в алгоритме анализа текста, как продукта речевой деятельности, станет определение степени семантической близости между лингвистическими единицами на основании их распределения (дистрибуции).
Предварительно оговорим следующий важный методологический аспект исследования: принимая по- ложение об односторонности языкового знака [243, с. 93], мы должны будем принять положение о том, что контекст как совокупность значений соответствующих языковых единиц возникает потому, что существует значение текста как набор семантических дифференциальных признаков, как элемент семантической структуры языка. Следовательно, контекст как система значений определенных языковых единиц (в нашем случае – единиц текста как уровня языка) структурируется значениями этих единиц, а не наоборот.
Проиллюстрируем все вышесказанное на конкретном примере. Демотиваторы, размещаемые в сети Интернет выступают в последнее время все чаще как объекты судебной лингвистической экспертизы, в ходе которой перед экспертом ставится, например, вопрос в следующей формулировке: Есть ли в тексте высказывания о полярной противоположности, антагонизме, принципиальной несовместимости интересов одной этнической группы по отношению к какой-либо другой? Ключевой фрагмент вопроса: на-личие/отсутствие противопоставления, антагонизма. Таким образом, цель эксперта – сугубо лингвистическое и специальное исследование поликодового текста с целью выявления в нем криминалистически значимой информации.
В соответствии с издательскими принципами мы не можем в рамках данной статьи разместить демотиваторы экстремистского содержания. Поэтому в качестве примера мы обращаемся к нейтральному по форме и содержанию тексту (см. Рисунок). Но сам принцип анализа может быть по аналогии приложим и к интересующим судебную лингвистическую экспертизу объектам.
При общем контексте, который задан подзаголовком демотиватора «А вы не верили…», создается матрица, которая структурируется двумя сверхфразо- выми единствами «При социализме нет места безработице!» и «При капитализме миллионы безработных рук!». При одинаковом «окружении» – включенность в один контекст, отграниченный подзаголовком, два процитированных сверхфразовых единства имеют разную грамматическую форму, соответственно, отрицательную, оформленную отрицательной частицей «нет», и тем самым – маркированную, и положительную – немаркированную. Таким образом, следует констатировать наличие в контексте контрастной дистрибуции. Последняя верифицируется на двух знаковых уровнях – символическом и иконическом. Мы полагаем, что поскольку речь идет о лингвистической экспертизе, то вектор верификации может быть только односторонним: от символических и иконических элементов поликодового текста к собственно языковым. На уровне символическом присутствует так называемая графодеривация [3] – мена прописных и строчных букв, и мена цветовой гаммы – красного и черного буквенных шрифтов. При этом черный цвет буквенного шрифта является немаркированным, а красный – маркирован, так как обладает в приведенном тексте устойчивым значением «социалистический», с учетом общего красного фона поли-кодового контекста именно сверхфразовое единство «При социализме нет места безработице!» противопоставляется сверхфразовому единству «При капитализме миллионы безработных рук!». На уровне ико-ническом представлены два изображения: стоящие за станком с табличкой «стахановец» (слово содержит в себе значение ‘наличие работы/ занятости’) два человека, и человек с протянутыми руками и табличкой «согласен на любую работу» (словосочетание содержит в себе значение ‘отсутствие работы/занятости’).
Таким образом, два сверхфразовых единства представляют собой единицы языка, выступающие

Рисунок. Пример демотиватора
в тождественном окружении, но при этом элементы дифференцированы по значениям. Тем самым, эксперту дается однозначная возможность сделать категорический вывод о наличии в контексте признаков противопоставления. Противопоставленность значений формирует контекст, в языковом плане заданный эллиптической синтаксической конструкцией «А вы не верили…». Многоточие является формальным признаком эллипсиса, используется для обозначения неовнешненного языком значения, недосказанности. Сам же эллипсис в лингвистике понимается как единица текста, которая восстанавливается посредством контекста. Так как установлено, что значение контекста в целом – это противопоставление социализма капитализму, то восстанавливаемый элемент эллиптический элемент синтаксической конструкции может содержать только положительное (не отрицательное) бытийное значение ‘это есть’. В лингвистике утвердилось мнение, что эллиптические конструкции имеют строго определенное восстанавливаемое значение. Последнее связано с тем, что на месте пропуска существует некая нулевая единица языка, значение которой представляет собой копию логической формы антецедента, при этом синтаксическая форма этой единицы полностью зависит от синтаксиса антецедента [28]. Помимо прочего, те формальные признаки, которыми характеризуются все языковые единицы исследуемого текста, позволяют сделать вывод о том, что гипотеза относительно некоторого яв- ления - занятость при социализме и безработица при капитализме – на уровне языка формулируется в утвердительной форме. То есть, эксперт может сделать категорический вывод о том, что текст имеет форму утверждения.
Очевидно, что описанная методика дает эксперту возможность работать не только в «ручном режиме», но и формирует предпосылки для построения математической модели, позволяющей в будущем разработать соответствующее программное обеспечение. В качестве способа представления модели на данном этапе нашей работы мы гипотетически считаем возможным использовать векторные пространства из линейной алгебры. В этом случае данные о дистрибуции лингвистических единиц представляются в виде многоразрядных векторов, которые образуют словесное векторное пространство. Векторы будут соответствовать лингвистическим единицам, а измерения – контекстам.
В заключение отметим следующее: все обозначенные выше проблемы актуальны, но не могут быть однозначно разрешены без последующего обращения к ним при проведении очередных судебных лингвистических экспертиз. Между тем, выявление проблем, как они представлены в настоящей статье, должны способствовать более слаженной работе судей и экспертов, предупреждать возможные трудности, способствовать повышению уровня экспертных заключений.
Список литературы Методологические проблемы при исследовании продуктов речевой деятельности в судебной лингвистической экспертизе
- Арабчик Д.В. Демотиватор как жанровая разновидность поликодового текста: особенности проведения судебной лингвистической экспертизы// Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. - 2019. - № 1. - С. 144-148.
- Базылев В.Н. Психолингвистика текста// Российская психолингвистика: итоги и перспективы (1966–2021): Коллективная монография/ научн. ред. И.А. Стернин, Н.В. Уфимцева. - М.: Институт языкознания РАН, 2021. С. 443-455.
- Базылев В.Н. Графодеривация как воздействующий потенциал и как объект исследования в юрислингвистической экспертизе// Вопросы психолингвистики. - 2016. - № 3. - С. 26-37.
- Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста. - М.: Флинта, 2007. -592 с.
- Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. - М.: Норма, 2005. – 527 с.
- Бушев А.Б. Об объективных сложностях лингвоэкспертной деятельности в суде// Язык государственной службы. Лингвистические вопросы теории и практики: Сборник материалов Международного круглого стола / Под ред. Е.Н. Бондаренко. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2020. - С. 139-148.
- Вашунина И.В., Нистратов А.А., Тарасов Е.Ф. Креолизация текста как способ изменения его восприятия// Полилингвиальность и транскультурные практики. - 2019. - Т. 16. - № 4. - С. 472-484.
- Викторова О.А. Особенности поликодовых демотивационных постеров с включением языковой игры. - Тверь: ТвГУ, 2016. - 180 с.
- Галяшина Е.И. Квалификационные и профессиональные требования к эксперту по судебной лингвистической экспертизе: лингвист-эксперт или эксперт-лингвист?// Язык. Право. Общество. - 2018. - № 2. - С. 27-32.
- Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1959. - 486 с.
- Изотова Т.М., Крюк Е.К., Кузнецов В.О., Плотникова А.М. Методические рекомендации по проведению судебно-автороведческих экспертиз. - М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2020. – 22 с.
- Изотова Т.М., Кузнецов В.О., Плотникова А.М. Методика проведения судебной лингвистической экспертизы по делам об оскорблении// Теория и практика судебной экспертизы. - 2016. - № 1. - С. 92-98.
- Козловская Н.В. О новой терминологии в современной лингвистической экспертизе: функциональный аспект// Acta Linguistica Petropolitana. - 2019. - Vol. 15. - № 1. – С. 143-163.
- Кукушкина О.В., Сафонова Ю.А., Секераж Т.Н. Методика проведения судебной психолого-лингвистической экспертизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму и терроризму. - М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2014. - 98 с.
- Кукушкина О.В. Негативная информация: утверждение о факте или выражение мнения? // Теория и практика судебной экспертизы. - 2016. - № 3 (43). - С. 132-145
- Леонтьев Д.А., Иванченко Г.В. Комплексная гуманитарная экспертиза: методология и смысл. - М.: Смысл, 2008. - 133 с.
- Методическое письмо «Об особенностях судебных лингвистических экспертиз информационных материалов, связанных с публичным распространением под видом достоверных сообщений заведомо ложной (недостоверной) информации». - М.: ФБУ РФЦСЭ, 2022. - 9 с.
- Милякина Е.В. Гносеологические проблемы юридической науки// Философские проблемы отраслевых юридических наук: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - СПб: СПб ГУ, 2020. - С. 12-16.
- Минюст признал неквалифицированным автора десятков экспертиз. Электронный ресурс URL: https://pravo.ru/story/242269/ (дата обращения – 15.09.2022).
- Нефедов С.Н. Байесовский подход к оценке доказательств и стандартизации вербальных формулировок выводов экспертов// Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции: сб. науч. тр. - Минск: РИПО, 2015. - Вып. 8. - С. 187–195.
- Никишин В.Д. Объекты судебной лингвистической экспертизы: новые вызовы криминогенной интернет-коммуникации// Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2020. - № 8. – С. 80-87.
- Новожилова Е.В. К проблеме качества судебных лингвистических экспертиз// Вопросы экспертной практики. - 2019. - № 1. - С. 485-488.
- Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. - М.: Юристъ, 2009. - 175 с.
- Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование. – М.: Наука, 1977. – 341 с.
- Сонин А.Г., Мичурин Д.С. Эволюция поликодовых текстов: от воздействия к взаимодействию// Вопросы психолингвистики. - 2012. - Вып.16. - С. 164-173.
- Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. - М.: Гардарики, 2006. - 384 с.
- Судебная экспертиза: типичные ошибки/ под ред. Е.Р. Россинской. - М.: Проспект, 2012. - 544 с.
- Тестелец Я.Г. Эллипсис в русском языке: теоретический и описательный подходы// Типология морфосинтаксических параметров. – М.: МГУ, 2011. – С. 11-14.