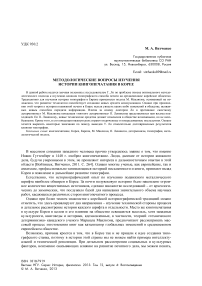Методологические вопросы изучения истории книгопечатания в Корее
Автор: Витченко Мария Андреевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
В данной работе ведется заочная полемика с исследователем Т. Ло по проблеме поиска оптимального методологического подхода к изучению влияния типографского способа печати на средневековое корейское общество. Традиционно для изучения истории типографии в Европе применялся подход М. Маклюэна, основанный на положении, что развитие технологии способствует созданию новых средств коммуникации. Однако при применении этой теории к истории подвижной печати в Корее нельзя увидеть каких-либо изменений в обществе, вызванных новым способом передачи информации. Взятая за основу доктором Ло в противовес «жесткому детерминизму» М. Маклюэна концепция «мягкого детерминизма» П. Левинсона представляется нам весьма подходящей. По П. Левинсону, новые технические средства делают изменения в обществе возможными, но не неизбежными. Кроме того, в его концепции важную роль играют отсроченные и опосредованные последствия. Однако хочется выразить некоторые замечания по поводу выводов Т. Ло относительно долговременных результатов влияния типографии.
Книгопечатание, корея, европа, м. маклюэн, п. левинсон, детерминизм, типография, методологический подход
Короткий адрес: https://sciup.org/147218797
IDR: 147218797 | УДК: 930.2
Текст научной статьи Методологические вопросы изучения истории книгопечатания в Корее
В массовом сознании западного человека прочно утвердилось знание о том, что именно Иоанн Гуттенберг в 1440 г. изобрел книгопечатание. Люди, далекие от истории книжного дела, будучи уверенными в этом, не проявляют интереса к дальневосточным опытам в этой области [Войтишек, Витченко, 2011. С. 264]. Однако многие ученые, как европейские, так и азиатские, профессионально занимающиеся историей письменности и книги, признают вклад Кореи в появление и дальнейшее развитие типографии.
Естественно, что историографический опыт по изучению подвижного металлического шрифта наиболее обширен в Корее. За почти полувековую историю было накоплено огромное количество вещественных источников, сделано множество исследований – от археологических до химических, что послужило базой для написания значительного объема научных работ, касающихся различных сторон книгопечатного процесса.
Однако при более тесном знакомстве с корейской историографической традицией можно отметить, что здесь превалируют два направления – изучение технической стороны процесса и детальное рассмотрение истории каждого шрифта в отдельности. Место же книгопечатания в культуре Кореи в целом и его влияние на общество освещаются вскользь, хотя западные культурологи, книговеды и историки, вдохновленные, в частности, теорией «технического детерминизма» канадского ученого Маршала Маклюэна, предпочитают рассматривать массовый процесс изготовления книг как катализатор глобальных изменений в средневековом европейском обществе.
Возможно, причина кроется в том, что в Корее так и не пришли к идее создания типографского станка, поэтому в истории этой страны мы не можем найти примера интеллектуальной и технической революции. При детальном рассмотрении социальных и культурных факторов, неизменно оказывающих влияние на развитие печатного дела, мы можем понять,
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 4: Востоковедение © М. А. Витченко, 2013
почему Корея, несмотря на имеющиеся у нее преимущества (раннее заимствование и широкое распространение буддизма и конфуцианства, заимствование и усовершенствование технологии книгопечатания, появление алфавитного письма), не стала центром книгопечатания на Дальнем Востоке или хотя бы не пошла дальше по пути развития и усовершенствования печати с наборных форм, как это было сделано в Европе на несколько веков позже [Вой-тишек, Витченко, 2012. С. 289].
Коль скоро пути развития типографского способа печати в Корее и Европе разнятся, то, следовательно, разнится их влияние на соответствующие регионы. Таким образом, использование различных методологических подходов к изучению истории подвижного металлического шрифта в Корее и Европе не только оправданно, но и, на наш взгляд, вполне уместно.
Ярким представителем данного подхода можно считать доктора Трэйси Ло из Сингапурского национального университета 1.
Ее работа «Пересмотр влияния печати на средневековое корейское общество» («Re-Examining the Impact of Printing on Medieval Korean Society») была представлена в мае 2004 г. на секции коммуникаций и технологии в ходе LIV ежегодной конференции Международной коммуникативной ассоциации в Новом Орлеане (Луизиана, США). В этом докладе переосмысляется методологический подход к изучению истории типографии в Корее, а также делается попытка описать далекие последствия влияния книгопечатания на историю страны. Исследование интересно своим новаторством и открывает поле для дискуссии. Мы возьмем на себя смелость показать ключевые положения позиции доктора Т. Ло и выразить некоторые замечания.
Наша заочная полемика с уважаемым автором сводится к нескольким пунктам. В первую очередь, доктор Т. Ло указывает на тенденцию, существующую среди корейских историографов, концентрироваться на причинах отсутствия глобального влияния типографии на средневековое корейское общество 2. Далее, исследователь с негодованием высказывается о постоянном сопоставлении с историей Европы и подчеркивании того факта, что техника типографского набора появилась в Корее на два века раньше, чем на Западе.
Действительно, намеренное акцентирование столь раннего использования наборного метода печати выглядело, пожалуй, более выигрышно, если бы ремесленники Чосона дошли до идеи создания типографского пресса. Именно поэтому причины, помешавшие Корее стать родиной первой печатной машины, столь важны. Отмахиваться от причин неудачи при наличии таких богатых технологических ресурсов и наработок представляется нам довольно неразумным, поскольку разница в менталитете, в организации экономики данного периода, во внешних условиях значит очень много. Кроме того, стимулы для получения образования в Корее и Европе тоже разнились. В первом случае это была государственная служба, во втором – зачастую стремление к ведению торгового дела, тогда как в Корее, как пишет А. Н. Ланьков, испокон веков даже самый богатый предприниматель находится на социальной лестнице ниже, чем человек интеллектуального труда, что было обусловлено нормами конфуцианства [2006. С. 370]. В Европе типографии развивались, в первую очередь, как частные ремесленные предприятия, в Корее же частных издательств почти не было, тогда как производство книг требовало государственных дотаций.
Не стоит забывать и о различиях в системе письменности. Хотя в Чосоне в 1444 г. и был изобретен фонетический алфавит хангыль , но для печати классических сочинений, необходимых при подготовке к сдаче экзамена на государственную должность, все же использовались китайские иероглифы, для которых сложность изготовления литер очевидно более высока, чем для латиницы.
Даже если суммировать наиболее явные причины, мешающие развитию типографского дела в Корее, – сложная система письменности, зависимость печати от государственной поддержки, недостаточное количество природных ресурсов для производства, ограниченная внешняя торговля, малочисленность частных издательств, низкая доступность образования, – то этого получается более чем достаточно, чтобы осознать всю силу их противодействия. Требовались бы серьезные изменения в традиционном корейском обществе, чтобы снизить их влияние.
Далее, вызывают недоумение две формулировки Т. Ло, приведенные в начале и в заключении ее статьи, относящиеся к тем изменениям, которые именно типографский метод печати привнес в корейское общество. Так, во введении доктор Т. Ло пишет следующее: «Печатный пресс совместно с системой образования поначалу не имел значительного влияния на корейское общество, но, как можно будет увидеть, им были насажены семена, которые в итоге привели к упадку существующей династии и подъему последующей». Иными словами, по мнению исследователя, развитие книгопечатания опосредованно привело к смене династии. Однако в финале работы она отмечает, что если в Европе под влиянием книгопечатания была изменена социальная структура, то в Корее изменилась не собственно структура, а ее внешняя оболочка, т. е. основным результатом стало появление нового класса, садэбу . Если проследить ход рассуждений автора, то можно легко заметить, что факты, которые она приводит, доказывают именно второе утверждение – о появлении нового вида аристократии.
В самом деле, сложно представить, что книгопечатание способно привести к смене династии, поскольку существовало несколько куда более весомых причин, лежащих в области внутренней и внешней политической ситуации.
Книгопечатание же вместе с системой кваго – экзаменов на должность государственных чиновников – помогло сравнительно быстро заполнить множество пустующих вакансий на государственные посты после удаления с них представителей старой потомственной аристократии, не согласной с новым правлением.
Центральной мыслью данной работы доктора Т. Ло можно считать идею использования нового методологического подхода к изучению истории подвижного металлического шрифта в средневековой Корее. Этот подход, по мнению автора, должен базироваться на концепции «мягкого детерминизма» американского профессора в сфере медиа и коммуникаций Пола Левинсона, которую он выдвигает в работе 1998 г. «Мягкие грани: естественная история и будущее информационной революции» [Levinson, 1998]. Данная концепция противопоставляется теории «жесткого детерминизма», выдвинутой упомянутым М. Маклюэном и представленной, в частности, в его работе 1962 г. «Галактика Гутенберга: Становление печатающего человека» [Mcluhan, 1962].
Следует отметить, что термины «мягкий» и «жесткий детерминизм» являются общефилософскими, но в концепциях П. Левинсона и М. Маклюэна они соотносятся, в первую очередь, с влиянием тех или иных технологических достижений (особенно в сфере коммуникаций) на человеческое общество.
По П. Левинсону, информационные технологии, в данном случае печатный пресс, сами по себе не могут значительно изменить общество. Он пишет об этом следующее: «…медиа редко имеет неизбежные социальные последствия. Скорее, оно делает возможными события, чьи форма и влияние есть результаты других факторов» [Levinson, 1998. С. 3]. Другими словами, результат не способен случиться без технологий, но не технологии неизбежно его создают. Следовательно, имеются другие ключевые факторы для создания результата, помимо технологических.
Развитие цивилизации, согласно учению М. Маклюэна, связано с постоянным совершенствованием средств массовой коммуникации и одновременно с изменениями в коммуникативном пространстве: разобщенные территории соединяются в единое целое с помощью новых дорог, транспорта, денег, СМИ (цит. по: [Архангельская, 2004. С. 4]).
По мнению М. Маклюэна, изобретение новых технических средств всегда носит революционный характер. Новации в технологиях имеют прогрессивный характер и способствуют созданию новых средств коммуникации. От алфавита и письма к печатному станку, а затем к электронным средствам коммуникации – таков путь развития цивилизации [Там же]. Таким образом, согласно его теории, печатный процесс стал определяющей силой социальных изменений в средневековой Европе.
Следует отметить, что доктор Т. Ло рассматривает европейский пример влияния типографии на общество также с позиции «мягкого детерминизма», определяя печать как необходимое, но не достаточное условие для поднятия уровня грамотности. Исследователь пишет, ссылаясь на И. Фана [Fang, 1997], что изменения в Европе произошли вместе с подъемом экономических структур коммерциализма и меркантилизма. Политика меркантилизма привела к внедрению бизнес-контрактов, что обусловило рост потребности среднего класса, особенно купечества, в грамотности (цит. по: [Ло, 2004]).
Т. Ло отмечает, что Корея и Европа владели, по большому счету, одной и той же технологией. Однако под воздействием разных социальных, культурных и исторических факторов эти страны пришли к совершенно разным результатам. Доктор Т. Ло стремится донести мысль о том, что, в соответствии с теорией «мягкого детерминизма» П. Левинсона, корейское общество все же претерпело некоторые изменения, одним из ключевых причин которых стало появление технологии печати подвижным металлическим шрифтом. Эта идея предлагается в качестве альтернативы мнению, что типографский способ печати не привел к каким-либо серьезным изменениям в культуре и структуре средневекового корейского общества.
В работе Т. Ло исследуется непреднамеренное влияние информационных технологий. Вместе с оценкой величины начального влияния информационной технологии посредством оценки ее взаимодействия с социальной системой необходимо также рассмотреть длительное воздействие этой технологии, изучив взаимную связь между информационной технологией и социальной системой 3.
Длительное воздействие специфического способа коммуникации часто дает непредсказуемые последствия. Приводя в качестве примера печатный станок И. Гутенберга, можно отметить, что вряд ли он мог вообразить себе, что его изобретение поможет стимулировать научную революцию и едва не приведет к коллапсу всемогущей Римской католической церкви [Levinson, 1998. Р. 9].
По мнению доктора Т. Ло, таким отсроченным последствием для Кореи стало то, что подвижный металлический шрифт не изменил структуру общества или образовательную систему, но привел к смене правящей династии в стране. Подтверждение своей гипотезы она находит истории Корё (918–1392).
Именно на вторую половину существования этого государства и приходится самое раннее свидетельство об изобретении подвижного металлического шрифта на территории Корейского полуострова. В предисловии к «Исангук чип» (« 이상국집 »), 11-му тому трактата Ли Гюбо (1168–1241), упоминается, что 50 томов «Санчон когум-ымун» (« 상정 고굼으문 ») были напечатаны подвижным металлическим шрифтом. Это первый документ, где приводится упоминание об использовании подвижного шрифта для печати книг [Пак Мунёль, 2001. С. 51]. По мнению исследователя Пак Пёнсына, эта книга была опубликована в 1123 г. [Park Byong-son, 2003. Р. 109].
Несмотря на столь ранее заимствование и усовершенствование идеи подвижного металлического шрифта польза книгопечатания не распространилась на все слои общества. Его жесткая структура, основанная на знатности по рождению, соотносилась с тремя видами коммуникативной культуры – письменной, печатной и устной. Письменная коммуникация занимала особое место в дворянской среде, где уважение к чтению и письму определялось элитарностью знаний.
Государство Корё по конфессиональной принадлежности было буддийским, и, как известно, именно буддизм стал питательной средой для развития ксилографии. Пропаганда этой религии стала своеобразной причиной для развития ксилографического способа книгопечатания. Однако храмовые издательства в значительной мере зависели от государственной финансовой поддержки [Park Byong-son, 2003. Р. 134-142].
Большая часть населения Корё обходилась в повседневной жизни устной коммуникацией, передавая из поколения в поколение необходимые для жизни знания, а также сохраняя таким способом примеры народного творчества.
Поскольку до введения системы экзаменов кваго на государственную должность не приходилось говорить о какой-либо социальной мобильности, то очевидно, что спрос на печатную продукцию был ограничен собственно социальными рамками, препятствовавшими получению образования кем-либо, кроме представителей элиты.
В 958 г. король Кванджон ввел систему экзаменов на государственные должности, участие в которых могли принимать все талантливые и способные люди, независимо от происхождения. Помимо этого Кванджон провел ряд мероприятий, направленных на то, чтобы подорвать политическую, экономическую и военную мощь аристократии, которая стремилась оказывать как можно большее влияние в центральном правительстве [Курбанов, 2009. С. 127].
Введение экзаменов кваго должно было привести к власти способнейших, но не знатнейших. Хотя очевидно, что число постов было гораздо меньше, чем число претендующих на них, тем не менее это вызвало подъем в образовании и значительно повысило спрос на книги, выпущенные государственными типографиями.
После смерти короля Кванджона в систему кваго были внесены изменения, согласно которым лица незнатного происхождения могли претендовать только на посты в провинции.
Тем не менее влияние системы экзаменов на средневековое корейское общество отрицать нельзя. Повышение значения грамотности для простых людей, их реальная заинтересованность в образовании, потребность в книгах – вот что считает доктор Т. Ло основном результатом введения кваго . Экзамены сыграли для книгопечатания в средневековой Корее ту же роль, что и экономический подъем в Европе.
Далее доктор Т. Ло обращает внимание на события XII в., борьбу за власть между кланами военных [Тихонов, 2003. C. 345]. Поскольку значительная часть прежней аристократии и гражданского чиновничества так или иначе была отстранена от власти, в центральном правительстве образовались вакансии, требовавшие заполнения.
Тогда генерал Чхве Чхунхон (1149–1219) обратил свое внимание на провинциальных служащих администрации, получивших свои места посредством сдачи экзамена и притесняемых более знатными и богатыми чиновниками центра. Эту часть служивого сословия называли садэбу , дословно «ученые и большие мужи» [Курбанов, 2009. С. 135]. Помимо возвышения садэбу Чхве активно поддерживал систему кваго , несомненно спонсируя деятельность государственных типографий, которые поставляли необходимый для подготовки к экзаменам материал.
Монгольское нашествие на Корё в 1270 г. привело к смене состава высшего чиновничества и выдвижению новой аристократии. Сословие садэбу снова было отстранено от важных постов и отправлено в провинциальные государственные офисы.
После подъема освободительного движения в конце XIV в. в Корё произошло возвышение генерала Ли Сон Ге, основателя государства Чосон (1392–1910) [Курбанов, 2009. С. 139]. После изгнания монголов и служившей у них аристократии образовывается множество вакантных постов, которые требуется заполнить компетентными управленцами. Тогда генерал Ли снова приближает садэбу к центру.
На ранний период Чосон также приходится заметный подъем важности образования и усиление значимости системы кваго . Примечательно, что пик числа напечатанных книг приходится на начало XV в., время становления и укрепления новой династии. Однако с течением времени «ученые мужи» набирают политическую и экономическую силу, становясь такими же, как предшествующие поколения придворной аристократии. На XVI в. приходится упадок развития книгопечатания, который довершает Имджинская война, оказавшая разрушительное воздействие на всю культуру Чосона в целом.
Подводя итоги полемики, следует отметить, что, безусловно, взгляды доктора Т. Ло являются весьма новаторскими, к тому же подкрепленными аргументами. Действительно, мысль о том, что информационные технологии в целом и книгопечатание в частности не являются единственным фактором, обеспечивающим социальные изменения, представляется весьма логичной и здравой. Очевидно, что в ходе истории все взаимосвязано, и нельзя полностью изолировать один процесс от других, идущих одновременно, во всем мы наблюдаем взаимовлияние. Это также можно считать главным доводом в пользу применения концепции «мягкого детерминизма» П. Левинсона как методологического инструмента при изучении истории развития книгопечатания в Корее. Данный подход в этом случае уместен именно тем, что маркирует изменения в социуме, вызванные книгопечатанием, как возможные, а не неизбежные. Теория М. Маклюэна основана же, в большей степени, на событиях, которые совершенно точно имели место, на прямых зависимостях и следствиях.
Хотя теоретизирование по вопросу того, насколько изменилась бы история Кореи, если бы книгопечатание спровоцировало там подъем экономики и научную революцию, относится к области недоказуемого и непроверяемого, попытки альтернативного исторического прогнозирования могут привести к интересным предположениям. Однако хотелось бы призвать к искоренению тенденции говорить о корейском книгопечатании в сослагательном наклонении, как это принято среди некоторых корейских исследователей (Пак Пёнсен, Чон Хэбон и др.), и сосредоточиться на ряде более насущных моментов – технологических, идеологических аспектах, популяризации грамотности, книжном репертуаре и т. д., поскольку культурное наследие Кореи чрезвычайно богато сокровищами книгопечатной традиции.
Список литературы Методологические вопросы изучения истории книгопечатания в Корее
- Архангельская И. Б. Теория коммуникации в трудах Х.-А. Инниса иГ.-М. Маклюэна//Вестн. Нижегород. гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2007. № 3 (8). С. 148-152.
- Войтишек Е. Э., Витченко М. А. К проблеме зарождения книгопечатания в Корее//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2011. Т. 10, вып. 7: Археология и этнография. С. 263-272.
- Войтишек Е. Э., Витченко М. А. Типографский процесс в средневековой Корее//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 3: Археология и этнография. С. 280-289.
- Курбанов С. О. История Кореи с древности до начала XXI века. СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. ун-та, 2009. 680 с.
- Ланьков А. Н. Быть корейцем. М.: Восток-Запад, 2006. 544 с.
- Тихонов В. М., Кан Мангиль. История Кореи. М.: Наталис, 2011. Т. 1. 533 с.
- Fang I. A History of Mass Communication. Boston: Focal Press, 1997. 280 p.
- Levinson P. The Soft Edge: A Natural History and Future of the Information Revolution. L.; N. Y.: Routledge, 1998. 280 p.
- McLuhan M. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. Toronto: Univ. of Toronto Press, 1962. 293 p.
- Park Byong-son. Korean Printing from its Origins to 1910. Seoul, 2003. 296 р.
- Пак Мунёль. Кымсок-хвальчачжан [・・・. ・・・・・. ・・: ・・ ・・]. О подвижном металлическом шрифте. Сеул: Хвасан мунхва, 2001. 229 с.