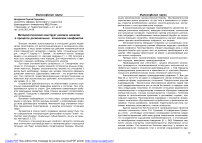Методологический конструкт анализа насилия в процессе региональных этнических конфликтов
Автор: Цокуренко Сергей Сергеевич
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 2, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14931185
IDR: 14931185
Текст статьи Методологический конструкт анализа насилия в процессе региональных этнических конфликтов
Краснодарского университета МВД России г. Краснодар, ул. Гидростроителей, д. 47, кв. 22
тел: (918) 363 34 89
Методологический конструкт анализа насилия в процессе региональных этнических конфликтов
Вначале насилие использовалось в отношении других людей, затем происходила его институционализация в человеческих взаимодействиях, и лишь затем насилие как действие человеческой воли стало применяться человеком к самому себе. «Социальный порядок, - пишут П. Бергер и Т. Лукман, - не является частью "природы вещей» и не возникает по «законам природы» [1, c. 88]. Культура и язык есть определенные типы порядка. Для теоретического и практического решения проблемы используется насилие.
При таком уточнении можно согласиться с А. Гжегорчиком: «Насилие по отношению к людям возникло исторически раньше приручения животных. Видимо, воспитательное насилие по отношению к детям было необходимо, прежде чем человек попытался разводить домашних животных. Дрессировка животных - это вторичное явление. Оно является примитивизированным распространением на животный мир воспитательных действий, используемых в отношении людей» [2, p. 39].
Социальная действительность не обеспечивает стороны социальных взаимодействий правилами диалога и согласия. Они устанавливаются одной из сторон. Для появления коммуникации требуется разрушение симметрии. Одна сторона начинает господствовать над другой. Господство и иерархия становятся источниками социальной организации.
Возникает необходимость в точке опоры, которая находится вне языка и культуры. Истоки культуры восходят к сопротивлению природы воле действующего человека. Физический труд становится способом преодоления сопротивления, а насилие использует потенциал труда.
Аргументом в пользу такого понимания насилия может быть также определенная интерпретация философии истории Гегеля: господство конституирует социальную субъективность ничуть не меньше, чем труд [3, c. 27].
Поскольку этнонациональный конфликт является затяжным меж-этническим противоборством в неизменяющейся структурной ситуации, нас будут интересовать теоретические подходы, объясня-
Философские науки ющие возобновление насильственной борьбы. Исследовательские перспективы можно разделить на три типа в зависимости от природы стимулов возобновления насилия: экзистенциональные, инструментальные и конструктивистские подходы.
В экзистенциональных подходах подчеркивается ценностная мотивация участников конфликта, имеющая генетические, психические или культурные основания. Ущемление чувства этнического достоинства побуждает к возобновлению насильственной борьбы за политическое признание этногруппы. Экзистенциалисты изучают микроуров-невые причины возобновления конфликта, его мотивы.
Инструменталисты обращают внимание на конкуренцию политических элит и структурные условия общества, ведущие к возобновлению конфликта. Конструктивисты отводят решающую роль в этом процессе борьбе куль-турных элит за духовное преобладание в обществе. Оба подхода ориенти-руют на макро- и мезоуровневый анализ причин конфликта.
Прежде всего, проанализируем содержание экзистенциональ-ных подходов, именуемых примордиализмом.
Примордиализм (лат. primordium - начало) объясняет этническую солидарность политизированной этногруппы изначальной потребностью людей в этнической идентификации [4, c. 6-8]. Варианты примордиализма различаются в зависимости от трактовки биологических или внебиологических основ этнической идентичности.
Биологический вариант примордиализма развивает П. Ван ден Берг [5, p. 401-411]. Он видит в солидарности членов этногруппы расширенную форму родственных отношений. Предпочтение родства индивидуализму - биологически обусловленное свойство людей. Без этой предрасположенности они не могли бы выжить и передать свои гены следующему поколению. В этногруппе отношения родственного покровительства и сотрудничества становятся образцами поведения неродственников. Соседи воспринимаются «своими», близкими людьми по генотипическим признакам, в противовес «чужим», пришедшим издалека. Присоединение индивидов к этногруппе продиктовано генетически обусловленной потребностью в физическом выживании. Угроза выживанию, например территориальный спор, вызывает внешнюю агрессивность членов этногруппы.
Другим вариантом биологического примордиализма является гипотеза «этнического поля» Л.Н. Гумилева. В определении Гумилева «этнос - устойчивый, естественно сложившийся коллектив людей, про-тивопоставляющий себя всем другим аналогичным коллективам, что оп-ределяется ощущением комплементарности, и отличающийся своеобразным стереотипом поведения» [6, c. 540]. Взаимная симпатия членов этногруппы (комплементарность) обусловлена «этническим полем». Оно аналогично биополю животных, у которых надиндивидуальное поведение стаи и колоний координируется еди-
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer
Философские науки
ным ритмом жизни организмов. «Близость этих ритмов у группы людей порождает чувство взаимной близости... Столкновение с носителями другого ритма вызывает ощущение чуждости, несходства, иногда доходящее до резких антипатий» [6, c. 516]. Различие этнических полей связано с кормящими и вмещающими ландшафтами. В трудовой и иных видах деятельности люди расходуют биохимическую энергию ландшафтов и непреднамеренно создают этнические поля, которые определяют внутреннюю взаимопомощь и агрессивную активность в отношении этнических пришельцев. Хотя гипотеза Гумилева не подтверждена экспериментально [6, c. 515], она содержит общую для приморди-ализма идею природного характера этнической солидарности людей.
В аспекте биологического примордиализма этнонациональный кон-фликт инициируется мотивами физической безопасности членов этногруппы. В условиях слабого правительства взаимный страх этногрупп и неопределенность гарантий физического выживания людей приводят к возобновлению насильственной борьбы. Биологический примордиализм содержит идею о том, что подавление социальным контролем этнической солидарности людей способно увеличить деструктивные последствия конфликта.
Оппоненты биологического примордиализма выдвигают два воз-ра-жения. Мотив безопасности для членов этногруппы не является всеобщим побуждением к этнонациональному конфликту. Н. Гонзалес отмечает, что потребность гражданского населения в физической защите может быть удовлетворена миграцией, присоединением к диаспоре вне региона вооруженного конфликта [7, p. 4]. Ф. Рейнольде и другие исследователи напоминают примордиалистам о различиях биологической и социальной эволюции: «Даже если этноцентризм и групповой конфликт имеют свои истоки в нашем эволюционном прошлом и гены предопределяют идентификацию с группой происхождения, мы можем, по крайней мере, надеяться преодолеть эти тенденции посредством роста нашего знания и понимания других народов» [8, p. 271]. Человеческая история не является линейной, в отличие от биологической эволюции. Под влиянием внешних обстоятельств изменяются образцы человеческого поведения. Тем не менее оппоненты примордиализма не отрицают мотива безопасности участников затяжного конфликта.
Культурологический вариант примордиализма отрицает врожденную солидарность людей и не ограничивается защитным мотивом физического выживания политизированной этногруппы. Индивидуальная потребность в присоединении к группе формируется в ходе социализации под влиянием этнической культуры. Этногруппа, отмечал М. Вебер, сохраняет культурное наследие; угроза культурному выживанию побуждает этногруппу «к сознательному участию... в создании светского властного комплекса», т.е. национального госу-
Философские науки
дарства [9, s. 14]. Данное объяснение массового участия в этнонаци-ональном конфликте основано на понимании этногруппы как историко-культурного образования.
Этот подход развивал, например Н.А. Бердяев, который кроме признака «общей судьбы», подчеркивал роль природного окружения в формировании психического склада народа [10, c. 8]. В советский период сходное определение этноса предлагал Ю.В. Бромлей: исторически сложившаяся совокупность людей, связанная общностью территории своего формирования, языка и культуры [11, c. 5758]. Из культурологического понимания этногруппы вытекает гипотеза о влиянии фактора угрозы культуре на этнополитическую активность.
Итак, в аспекте культурологического подхода этническое население склонно поддерживать вооруженный конфликт потому, что опасение угрозы своему физическому и культурному выживанию усиливается памятью прошлых межгрупповых конфликтов. Политическая автономия, или независимость, рассматривается этногруппой как гарантия своей безопасности. К конфликту приводит правительственная политика куль-турной ассимиляции.
Сторонники теории мультикультурализма, терпимого отношения к эт-нокультурным различиям людей, выступают против культурологического преувеличения роли прошлого исторического опыта в восприятии акту-альной проблемы безопасности этногруппы. Д. Ролз напоминает о мно-гочисленных фактах прошлой истории, свидетельствующих о примирении «между разнообразными религиями и моральными верованиями, а также теми проявлениями культуры, к которым люди принадлежат» [12, c. 198]. В этническом культурном наследии содержатся образцы не только конфронтации, но и кооперации между народами. В аргументе Д. Ролза сторонники инструментализма и конструктивизма усматривают подтвер-ждение своей теоретической позиции: националистические элиты манипулируют этническим наследием и побуждают неэлитные массы к не-терпи-мости и насилию в этнонациональном конфликте [13, p. 9-10].
Перейдем к психосоциальному объяснению причин этнонаци-онального конфликта. Оно обращено к ценностной приверженности людей, поддерживающих националистические требования своих лидеров, и объясняет психологические механизмы затяжного конфликта. Многие представители психосоциального анализа допускают существование изначальной потребности человека в этнической идентичности. Потому мы именуем данный подход примордиализмом.
Основной психологический принцип в объяснении этнонацио-нального конфликта - проведение различия между политической заинтересованностью элит и ценностной приверженностью неэлитных слоев. Ценностная приверженность именуется «этнической идентичностью» [13, c. 63].
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer
Философские науки
Психолог Дж. Бартон именует внутреннее побуждение членов конфликтной этногруппы «потребностью во внешнем признании этнической идентичности» [14, p. 30]. Этническая идентичность столь же естественна, как разделение людей по полу и географии. Стремление к внешнему признанию значимости референтной группы отличается от интересов, направленных к присвоению осязаемых благ. Индивиды, отождествляющие себя с группой, стремятся к повышению ее престижа и удовлетворяются символами (не всегда очевидными) престижа.
Этническая идентичность является источником гордости индивидов. Ущемленное чувство этнической идентичности становится мотивом участия широких слоев этногруппы в затяжном конфликте. Это чувство ущемляют отрицательные сравнения этнических статусов в условиях экономической конкуренции, институциональная и социальная дискриминация, дистрибутивная несправедливость и стигматизация, «наклеивание ярлыков».
Возобновляющееся насилие в этнонациональном конфликте можно объяснить тем, что человеческие потребности в групповой идентичности и им соответствующие ценности культуры не могут быть предметом торга, обмена или сделки. Только интересы, обусловленные личными ролями и возможностями внутри существующих политических систем, становятся предметом переговоров и сделок. Соглашения, достигнутые в ходе переговоров, оказываются кратковременными, поскольку дают пре-имущества элитам и не решают базовые проблемы конфликта.
Следовательно, возобновление насильственного конфликта происходит потому, что в конфликтогенной ситуации сделка элит обеспечивает их кооптацию в существующие структуры государственной власти. Сделка не решает проблемы политического признания этногруппы. По поводу потребности в этнической принадлежности не может быть сделки. Главная причина возобновления массового насилия заключается в системе правитель-ственного управления конфликтом. Система включает переговоры и нор-мативно-властный контроль. Переговоры ведет правительство (при по-средничестве или без него) с этническими элитами. Нормативно-властный контроль означает принудительное применение закона, угрозу или применение силы против нарушителей правопорядка. При данной системе контроля, на которой настаивают инструменталисты, сохраняется социальная база насилия вследствие ущемленного чувства этнической идентичности. Для различения рационалистической и ценностной мотивации участников этнонационального конфликта исследователи обращаются к психоанализу.
Общеизвестно, что широкие слои этнообщности, вовлеченные в этнонациональный конфликт, выказывают высокий уровень нетерпимости к противнику - ненависть, гнев и деструктивные намерения.
Философские науки
В условиях гражданских беспорядков и этнических войн агрессивная нетерпимость проявляется в тяжких преступлениях, суицидальном поведении и в обо-стренной восприимчивости к неуважению этнических границ. Нетерпимость индивидов проистекает из восприятия опыта отношений этногруппы со средой, но уровень эмоциональности выходит за пределы конфликта интересов.
3. Фрейд именовал агрессивную нетерпимость защитным механизмом самолюбия, чувства собственного достоинства, соединенного с ревнивым отношением к мнению окружающих [15, c. 99-100]. Самолюбивая реакция индивида означает неудовлетворенную потребность в признании. Сама потребность коренится в психологии «Я», представлении о самом себе, зависящем от признания индивида референтной группой. Отказ в признании приводит к внутрилично-стному напряжению. Оно может побудить к крайним формам поведения - самоуничижению либо агрессивности.
Согласно Э. Фромму, самолюбивый человек поддерживает свое чув-ство достоинства двояким образом - посредством самовозвели-чивания и возвеличивания референтной группы. Оба вида возвеличивания действуют в этнонационалистической организации, которая "остается рассадником чувства собственной принадлежности" [16, c. 58]. Члены конфликтной этногруппы реагируют на принижение своей этнической гордости с той же успешностью, с какой отвечают на принижение личного достоинства. Совокупность экзофобских реакций образует потенциал поддержки сто-ронников возобновления конфликта. Эти реакции - иррациональны.
По мнению Б. Ведж, адекватным контролем насилия в этнона-циональном конфликте будет воздействие на протекание борьбы, учитывавшее ценностную мотивацию массовых участников конфликта [17, p. 59]. Д. Ригс именует этот контроль этнической аккомодацией: "практика, ведущая к взаимной адаптации этноорганизации и правительства" [18, p. 92]. Существуют следующие принципы аккомодационного правительственного контроля: конструктивность, основанная на взаимоприемлемом исходе конфликта; децентрализация власти и передача части властных полномочий территориально организованным общностям, вплоть до предоставления номинального суверенитета; государственная защита меньшинств, оказавшихся в невыгодном положении. По мнению сторонников аккомодационного контроля, проблема возобновления насилия в этнонацио-нальном конфликте может быть решена, поскольку учитывается ценностная мотивация этнополитизированной группы.
Следовательно, в психосоциальном аспекте участники этнона-цио-нального конфликта имеют различную мотивацию: этническая элита мо-тивирована инструментально, а националистическая часть этногруппы имеет ценностную мотивацию. В устойчивой конфликтной ситуации соглашения, достигнутые в ходе переговоров, оказыва-
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer
Философские науки
ются кратковременными, поскольку дают преимущества элитам и сохраняют социальную базу возобновления насильственной борьбы. Для прекращения насилия в конфликте система правительственного контроля конфликта должна быть аккомодационной.
Психосоциальный подход, развиваемый в рамках примордиа-лизма, имеет два теоретических недостатка: 1) признание инструментальной мотивации элиты противоречит исходному утверждению примордиализма о врожденной этнической солидарности людей; 2) не учитывается изменчивость этнических связей и чувств во времени и пространстве, что ставит под сомнение теорию универсальности и естественности этнической солидарности.
Сторонники инструментализма объясняют возобновление этнического насилия активностью политических элит и недостаточностью пра-вительственного контроля в условиях статусного неравенства этногрупп.
К разновидностям инструментализма относится элитарный инструментализм. Суть данного подхода определил В.А. Тишков: «Одной из самых распространенных является трактовка роли элит... в мобилизации этнических чувств, межэтнической напряженности и эскалации ее до уровня открытого конфликта» [19, c. 312-313]. Данный подход требует рассматривать этнонациональный конфликт как средство борьбы политических элит за государственную власть [20, c. 114]. Экономический инструментализм объясняет возобновление этнонационального конфликта сохранением экономического бесправия этнических меньшинств и недостаточностью правительственного контроля по предотвращению насилия. С точки зрения геополитического инструментализма условием возобновления насилия в этно-национальном конфликте является пособничество внешних сил, заинтересованных в распространении своего влияния в стратегическом регионе.
Общий теоретический недостаток инструменталистских подходов со-стоит в следующем: если этнонациональный конфликт вызван противо-положными интересами политических элит и этногрупп различного статуса, то он, подобно классовому конфликту, может быть урегулирован переговорами и сделкой, что не объясняет чередование в затяжном конфликте мирных соглашений и насилия.
При объяснении причин возобновления этнического насилия конст-руктивизм отводит главную роль идеологической активности культурной элиты. Принцип конструктивизма образует утверждение: отношение этногруппы к обществу ситуативно опосредуется обращением к культурному запасу знания. Поскольку в культурном наследии сохраняются образцы кооперации и конфронтации народов, они могут ослабить или усилить восприятие угрозы выживанию этноса, независимо от ее фактической величины. Привилегию обращения к культурному наследию имеет элита. По словам Л.М. Дробижевой, культурная 44
Философские науки
элита может «сформулировать необходимые представления, а ненужные демонтировать» [21, c. 25]. Конструктивизм противоположен методологии биологического примордиализма.
Следовательно, в аспекте этносимволического конструктивизма насилие в этнонациональном конфликте возобновляется потому, что в период мирных соглашений националистическая культурная элита контролирует символические ресурсы мобилизации сторонников продолжения вооруженной борьбы. Общий недостаток конструктивизма состоит в игнорировании пределов воздействия идеологов на этническую группу. Этноцентризм легко пробуждается. Но идеологам не удается его погасить в затяжном конфликте. Напрашивается примордиалистское объяснение устойчивости этнических предубеждений, что противоречит принципу конструктивизма.
Мы рассмотрели три методологических подхода к объяснению причин насилия в этнонациональном конфликте - примордиализм, инстру-иентализм и конструктивизм. Биологический вариант примор-диализма не находит эмпирического подтверждения и вносит малый вклад в понимание проблемы этнонационализма. Другие подходы, включая культурологический и социопсихологический приморди-ализм, не противоречат друг другу и являются различными исследовательскими перспективами. Все подходы объединяет общая идея: неадекватный правительственный контроль этнического насилия вызывает его возобновление. Эта идея позволяет учитывать вышеназванные подходы в рамках более общей системной перспективы. К принципам системного анализа этнического насилия и его контроля относятся социальный трансформизм, комплексность, эндогенно-экзогенный подход.
Системный подход учитывает общественную трансформацию как среду этнонационального конфликта. Большинство представителей инструментализма и конструктивизма соглашается в том, что затяжные кон-фликты преимущественно возникают в обществах, решающих адаптаци-онные проблемы модернизации. Конфликты могут переходить в пост-современное или информационное общество, если не найдены эффективные и легитимные средства контроля этнического насилия. Быстрая и малоуправляемая общественная трансформация вызывает структурную ситуацию социального напряжения: обострение конкуренции за жизненные средства, неравномерное распределение тягот повседневной жизни людей, институциональная недостаточность и ослабление контроля правопорядка. Возрастает беспокойство этнических меньшинств за свое выживание, титульных народов - за свое преобладание. Обостряется конкуренция элит за власть и культурное влияние. Превращение социального напряжения в конфликтную ситуацию осуществляет этническая организация, руководствующаяся национализмом.
Принцип общественной трансформации предусматривает исто-
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer
Философские науки рический анализ условий появления этнонационализма, движений и идеологий, инициирующих конфликты, а также изменений в характере социального контроля общества.
Комплексный анализ причин этнонационального конфликта обус-ловлен деструктивными последствиями конфронтации для жизни и прав местного населения, безопасности граждан государства и международного сообщества. Представители примордиализма обращают внимание на мотивационные причины конфликта, а сторонники инструментализма и конструктивизма - на мезо- и макроуров-невые факторы этнического насилия. Комплексный подход означает многофакторный анализ, учитывающий различное место и роль релевантных факторов в причинном процессе. Макроуровневые структурные факторы определяют среду протекания конфликта и играют роль его предпосылок. Они предшествуют конфликтному процессу или поддерживают его.
К микроуровневым причинам относится первичная конфликтная мотивация, например страх за выживание этногруппы, что формирует предрасположенность местного населения к конфронтации. Мезоуровневый фактор - конфронтация этноорганизации с правительством - сообщает динамику конфликту. Совокупность конфликтогенных факторов образует потенциал этнического насилия. При неадекватном социальном контроле он будет реализован.
В анализе социального контроля этнического насилия требуется соче-тание эндогенного и экзогенного подходов. При эндогенном подходе изу-чаются стратегии контроля, применяемые правительствами внутри своих стран. Если правительство утрачивает контролирующую способность, то международное сообщество вмешивается во внутренние дела государства и осуществляет миротворческий контроль. Его изучение предполагает экзогенный подход, позволяющий понять принципы, исторические условия и критерии миротворчества в глобализированном мире.
Перейдем к теоретическим аргументам. Ю. Хабермас сформулировал идею о естественном и свободном процессе коммуникации как условии равенства сторон диалога и совместного движения к истине. Р. Рорти выдвинул тезис: «Если мы озадачимся политической свободой, то истина и добро сами позаботятся о себе». В обоих случаях насилие осознается как средство нарушения коммуникации, которое навязывает определенные формы нормативного порядка. Они исключают истину из социально-политической жизни и социальной теории. Тоталитарные системы XX века - классический пример.
Однако насилие есть также средство восстановления межгрупповых связей и дискурсов. Л. Козер - пионер разработки теории конфликта - отвергает трактовку насилия как случайного явления социальной жизни и критикует этический подход к проблеме. Конечно, с моральной точки зрения насилие заслуживает осуждения и оцени-
Философские науки
вается как деструктивный феномен. Но нередко оно выполняет социальные функции, которые в длительной перспективе являются положительными. Например, положение некоторых социальных групп может быть таким, что они лишены не только легальных, но и криминальных способов реализовать жизненные цели: "Если остальные пути жизненного успеха закрыты, насилие может быть существенной альтернативой. В мире насилия такие свойства, как раса, социально-экономическое положение, возраст и т. д., не играют существенной роли. Личность оценивается на основе свойств, которые могут культивировать все. Обретение статуса не является следствием умения применять насилие и физическую силу. Оно зависит от готовности индивида поставить на карту здоровье и жизнь для достижения результата» [22, p. 78].
Социальный смысл такой ситуации описан Л. Козером в понятии «внутреннее насилие». Бывает так, что ненасильственные методы выражения групповых потребностей и интересов в данном обществе не могут быть реализованы. Это относится не только к маргинальным группам, но и к новым социальным группам. Каналы политической артикуляции выражают интересы сложившегося уклада сил и блокируют возможности легального выхода на политическую арену новых социальных сил. В этом случае насилие оправданно. Оно выполняет роль клапана безопасности. Служит единственным способом информации властей и общественного мнения о глубине социальных конфликтов: «Взрыв насилия фиксирует болезнь в социальном организме. Если в нее своевременно не вмешаться, возникает угроза основам социального порядка» [22, p. 79].
Частным случаем такой угрозы является современный левый и правый терроризм. Детальный анализ этого явления привел к важному теоретическому выводу: «Традиционное противопоставление насилия как инструментального действия и идейной манифестации как коммуникационного действия давно потеряло смысл. По отношению к терроризму данные категории следует признать взаимодополняющими. Наблюдатели этого явления в конце 1960-х гг. почувствовали потребность в активном вмешательстве. Гудрун Энсслин на процессе в Штаммгейме сказала: «Мы опасались, что вербальные протесты против войны выполняют роль алиби в нашем обществе. И пришли к выводу: слова без действия ничего не значат». Протестуя против господствующего пустословия и социальной лжи, террористы стремились доказать готовность к самопожертвованию, включая собственную жизнь. Одобрение масс можно получить только путем борьбы. Каждая террористическая акция есть сообщение, адресованное широким кругам общества. Существуют разные факторы генезиса и сущности терроризма. Все они могут интерпретироваться как разные проявления нарушения коммуникации индивидов и групп с социальной средой. Они являются сознательными и бессознательными попыт-
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer
Философские науки
ками очистить коммуникацию от деформаций и запретов" [23, p. 16].
Итак, в соответствии с концепцией Ю. Хабермаса насилие есть институт социальной интеграции. В условиях социальных конфликтов оно восстанавливает взаимопонимание субъектов. Исследователь Ч. Тилли проанализировал роль коллективного насилия в европейской культуре. Его выводы примечательны: "Периоды восстаний были главными и переломными моментами, когда простые люди выходили на историческую сцену Европы в доиндустриальную эпоху. Большую часть времени крестьянин страдал в молчании. Едва он обрел язык, он обратился к насилию. Даже по мере развития институтов политического представительства простые люди по-прежнему выражают свои чаяния и желания путем насилия" [24, p. 5-6]. Следовательно, насилие не требует культурной компетентности и вообще может обойтись без нее. Такова грустная закономерность, время действия которой еще не прекратилось.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что «многомерный» подход к изучению факторов конфликтогенности на Юге России в русле неоклассической модели научного исследования предполагает разработку такого методологического конструкта, который базируется, с одной стороны, на разноуровневом и разномасштабном видении конфликтогенной реальности, а с другой - на синтезе примордиалистских, инструменталистских и конструктивистских подходов, позволяющих целостно рассматривать мотивы участия людей в конфликтах.
В современной литературе выделяется три уровня конфликтогенных факторов: микро-, мезо- и макроуровень. При этом отмечается, что при изучении этих факторов используются два подхода. Сторонники структурного подхода основное внимание уделяют макроуровневым факторам, сторонники перцептивного подхода акцентируют внимание на факторах микро-и мезороуровня.
Используя многоуровневый подход, исследователи, изучающие конфликтогенные факторы, на микроуровене выделяют мотивы участия людей в конфликте. Среди мотивов участия людей в конфликтах исследователи указывают прежде всего дилемму безопасности, статусную заинтересованность, гегемонистские амбиции и конкуренцию элит, а на макроуровне главную роль отводят такому фактору, как неспособность правительства контролировать конституционный порядок на территории государства и «внешнее пособничество». Ряд ученых, изучая конфликтогенные факторы на Юге России, выделяют, с одной стороны, геополитические факторы, а с другой - социально-политические. Они считает, что геополитические факторы, характеризующие традиционные военно-стратегические и экономические интересы России и других государств мирового сообщества на Кавказе, изначально задают высокий фоновый уровень социальной напряженности в регионе. Геополитические факторы при этом рассматриваются на двух уровнях: на глобальном уровне - место Северного Кавказа в системе геополитических интересов мировых держав; на локальном уровне - геополитическое влияние Северного Кавказа на Российскую Федерацию.
Философские науки
Список литературы Методологический конструкт анализа насилия в процессе региональных этнических конфликтов
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995.
- GrzegorczykA. Ethik and Experience. Boston, 1989.
- Перов Ю.В., Сергеев К.А. «Философия истории» Гегеля: от субстанции к историчности//Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб., 1993.
- Carment D., Harvey F. Using Force to prevent Ethnic Violence. L., 2001.
- Van den Berghe P. Race and Ethnicity: Sociobiological perspective//Ethnic and Racial Studies. 1994. V. 1.
- Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и история природы. М., 1993.
- Gonzales N.L. Introduction//Conflict, Migration, and Expression of Ethnicity. College Park: University of Maryland, 1989.
- Reynolds V.S., Falger S.E., Vine L. (eds.). The Sociobiology of Ethnocentrism. Athens: University of Georgia Press, 1996.
- Weber М. Politishe Schriften. 4 Aufl. Tuefingen, 1986.
- Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.
- Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1981.
- Ролз Д. Теория справедливости. Новосибирск, 1995.
- Авксентьев В.А. Этническая конфликтология: в поисках научной парадигмы. Ставрополь, 2002.
- Burton J. Conflict Resolution: Its Language and Processes. L., 1996.
- Фрейд 3. Массовая психология и анализ человеческого "Я"//Фрейд 3. «Я» и «Оно». Соч.: В 2т. Тбилиси, 1991. Т. 1.
- Фромм Э. Душа человека. М., 1992.
- Wedge В. Psychology of the Self in Social Conflict//International Conflict tesolution/Ed. by E. Azar, J. Barton.
- Ethnicity. Intercosta glossary. Concepts and terms used in ethnicity research Ed. by F.W. Riggs.
- Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997.
- Цюрхер К. Мультикультурализм и этнополитический порядок в постсоветской России: некоторые методологические замечания//Полис. 1999. № 6.
- Дробижева Л.М. Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской России. М., 2000.
- Coser L. Continuities in the Study of Social Conflict. New York: The Free Press. 1967.
- BruningF. Europes's Dead-EndKids (SpecialReport)//Newsweek. 1981. April 20.
- Tilly Ch. Collective Violence in European Perspective. -New York: Bantam Books, 1969.