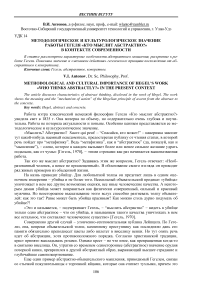Методологическое и культурологическое значение работы Гегеля «Кто мыслит абстрактно?» в контексте современности
Автор: Антонов В.И.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 3 (48), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены характерные особенности абстрактного мышления, раскрытые в работе Гегеля. Показаны значение и «механизм действия» гегелевского принципа восхождения от абстрактного к конкретному.
Гегель, абстрактное, конкретное
Короткий адрес: https://sciup.org/142142866
IDR: 142142866 | УДК: 14
Текст научной статьи Методологическое и культурологическое значение работы Гегеля «Кто мыслит абстрактно?» в контексте современности
Работа мэтра классической немецкой философии Гегеля «Кто мыслит абстрактно?» увидела свет в 1835 г. Она мизерна по объему, но содержательно очень глубока и поучительна. Работа не потеряла актуальности и поныне. Особенно ценным представляется ее методологическое и культурологическое значение.
«Мыслить? Абстрактно? Sauve qui peut! – “Спасайся, кто может!” – наверняка завопит тут какой-нибудь наемный осведомитель, предостерегая публику от чтения статьи, в которой речь пойдет про “метафизику”. Ведь “метафизика”, как и “абстрактное” (да, пожалуй, как и “мышление”), – слово, которое в каждом вызывает более или менее сильное желание удрать подальше, как от чумы» [Гегель, 1970], этими строками как раз начинается вышеназванная работа.
Так кто же мыслит абстрактно? Задаваясь этим же вопросом, Гегель отвечает: «Необразованный человек, а вовсе не просвещенный». В обоснование своего взгляда он приводит ряд живых примеров из обыденной жизни.
На казнь приводят убийцу. Для любопытной толпы он предстает лишь в одном оценочном измерении – убийца и не более того. Всесильный обывательский предикат «убийца» уничтожает в нем все другие возможные оценки, все иные человеческие качества. А некоторым дамам убийца может понравиться как физически совершенный, сильный и красивый мужчина. Но неосторожное высказывание этого вслух способно разгневать толпу обывателей: как это так? Разве может быть убийца красивым? Как можно столь дурно подумать об убийце?!
«Это и называется, подчеркивает Гегель, “мыслить абстрактно” видеть в убийце только одно абстрактное – что он убийца, и называнием такого качества уничтожать в нем все остальное, что составляет человеческое существо» [Гегель, 1970].
Совершенно другой случай утонченно-сентиментальная публика Лейпцига. По Гегелю, она, вопреки обывательской толпе, казненному преступнику как последнюю дань его памяти обязательно преподнесет цветы либо вплетет в виселицу венки. Но тут опять речь идет об абстракции, хотя противоположного порядка. Согласно христианской традиции, крест принято выкладывать розами. Однако крест – не что иное, как превращенная когда-то в святыню виселица. Он, утратив со временем одностороннее (абстрактное) значение орудия позорной казни, превратился в другой абстрактный образ, выражающий высшее страдание и глубочайшее самопожертвование.
Еще один пример абстрактно-обывательского мышления, приводимый Гегелем, связан со стычкой покупательницы с торговкой яйцами, которые она считает тухлыми, причем это оглашается ею вслух. Такое заявление покупательницы буквально взрывает торговку: «Мои яйца тухлые?! Сама ты тухлая!» Далее уже следует неудержимый поток брани и оскорблений в адрес покупательницы. «Она, пишет Гегель, мыслит абстрактно и все – от шляпки до чулок, с головы до пят, вкупе с папашей и остальной родней – подводит исключительно под то преступление, что та нашла ее яйца тухлыми. Все окрашивается в ее голове в цвет этих яиц…» [Гегель, 1970].
Следующий пример абстрактного мышления – это положение слуги. «…Нигде ему не живется хуже, чем у человека низкого звания и малого достатка; и, наоборот, тем лучше, чем благороднее его господин. Простой человек и тут мыслит абстрактно, он важничает перед слугой и относится к нему только как к слуге; он крепко держится за этот единственный предикат» [Гегель, 1970].
То же самое, но в худшем варианте, происходит среди военных. Гегель безупречно точен в характеристике обыденно-абстрактных отношений, культивируемых в прусской армии: «У пруссаков положено бить солдата, и солдат поэтому – каналья; действительно, тот, кто обязан пассивно сносить побои, и есть каналья. Посему рядовой солдат и выглядит в глазах офицера как некая абстракция субъекта побоев…» [Гегель, 1970].
Таким образом, Гегель тонко и убедительно показывает, что абстрактное отношение к окружающему миру удел обывателей, свойство, присущее обыденному сознанию. Необразованный человек склонен к абстрактному мышлению. Основанное на апеллировании к односторонним абстрактным определениям, такое мышление упрощает (в этом смысле «облегчает») отношение, общение и понимание обывателя тех, кто и что его окружает. С точки зрения Гегеля, как раз однобокость подхода, одномерность оценки, «одногранность» видения действительности (вещей и явлений, фактов и событий) представляют собой характерную суть абстрактного мышления. При этом главная особенность обывательского уровня сознания заключается в том, что он оперирует, как правило, несущественными (нередко – случайными) абстрактными определениями. Вот почему на этом уровне становятся возможными нарочитое выпячивание, гипертрофированное (как позитивное, так и негативное) отношение к отдельным сторонам многосложной действительности.
Гегелевское понимание абстрактного мышления, его тонкое и умное предостережение на сей счет имеют важное просветительское значение. И не только. Они могут послужить весьма поучительным уроком и для нынешних непростых времен. Современный мир как никогда насквозь пронизан духом абстрактно-обывательского мышления. Ведь сегодня в любом конкретном обществе, в каждой стране и регионе, в любом конкретном народе, этносе и даже трудовом коллективе обыденный уровень сознания является доминирующим фактором. Поэтому в условиях идеологических споров, информационной войны, межэтнических конфликтов, межкультурных противопоставлений, навязывания «двойных стандартов» в межгосударственных отношениях и т.д. абстрактно-обывательское мышление становится удобным орудием для нужной манипуляции, спекуляции и дезинформации. При этом односторонне-абстрактные характеристики, особенно отрицательные, в обществе, в межнациональных и межкультурных отношениях обретают чрезмерно категоричный, сверхобобщенный характер. Такого рода крайности в межгрупповых, межэтнических, межкультурных отношениях неизбежно трансформируются в непримиримую между собой оппозицию типа «мы они», где «свое» представлено только в одном – благожелательном цвете и свете: белое и яркое, а «чужое» изображено в контрарной окраске и освещении: черное и грязнотусклое. Поэтому сфера абстрактной обывательщины превращается в благодатную почву для насаждения идей ксенофобии, этноцентризма, нацизма, расизма.
Преодоление ограниченности, односторонности абстрактного мышления может быть достигнуто только на основе адекватного понимания и реализации в жизни единства абстрактного и конкретного. Гегель, впервые разработав на категориальном (теоретикопонятийном) уровне абстрактное и конкретное, четко обосновывает, что в них отражены две (низшая и высшая) степени содержательности, развитости мысли. Причем Гегель конкретное связывает с разумным мышлением, а абстрактное – с рассудочностью мышления.
Методологическая функция этих категорий состоит в том, что благодаря последовательному оперированию ими обеспечивается процесс развертывания, движения мышления от односторонних определений предмета (объекта) к многосторонности его охвата, к глубинному проникновению в его сущность, т.е. восхождение от абстрактного к конкретному. Следовательно, конкретное в мышлении имеет очень мало общего с конкретночувственным.
Другими словами, конкретное выступает и исходным и конечным пунктом движения мысли. Такого рода семантический «развод» данной категории на два совершенно разных уровня делает методологический принцип восхождения от абстрактного к конкретному ясным для адекватного его понимания, особенно это касается обыденного сознания, обывательского мышления. Ведь для последних конкретное является, прежде всего, чувственноконкретным. Потому для них принцип восхождения от абстрактного к конкретному кажется неестественным и надуманным; более верным для обыденного сознания, обывательского мышления представляется принцип нисхождения от абстрактного к конкретному.
Таким образом, абстрактное является важнейшей промежуточной ступенью движения мысли в процессе постижения объекта. Оно связано с процедурой расщепления и выделения (анализа) какой-либо одной, отдельно взятой стороны предмета. Но нужно еще раз подчеркнуть, что в гегелевском методологическом принципе восхождения к конкретному речь идет не об обыденной, а о теоретической (философско-логической) абстракции, отражающей и фиксирующей существенный и необходимый аспект познаваемого объекта. Она здесь, по сути, выступает как аналог научной абстракции. Оперирование последними становится важнейшим способом развития научного знания.
Но все-таки адекватное отражение и понимание изучаемого предмета, достижение целостной и объективной картины исследуемого объекта возможны только на уровне конкретного в мышлении. Это осуществляется благодаря синтезу существенных абстрактных определений. Поэтому конкретное в мышлении своим содержанием имеет отражение не внешних (порою – второстепенных, случайных) определенностей предмета (объекта) в их непосредственном, эмпирически доступном виде, а многообразия различных существенных сторон, связей, отношений в их внутренне необходимом единстве. В современной науке этот синтез находит воплощение в разнообразных системах (именно в системах!) абстракций (математических, физических, химических, технических, экономических и т.д.), позволяющих добиться более глубокого содержательного знания об объективной реальности.
Гегелевский принцип восхождения от абстрактного к конкретному, впоследствии блестяще примененный К. Марксом в исследовании феномена капитала, имеет не только методологическое, но и культурологическое значение. Полноценное познание и знание о культуре как о целостном и одновременно многообразном (полиморфном) явлении немыслимы без осознания внутренней связи и категориального единства абстрактного и конкретного, без понимания органичности этого синтеза. Абстрактное само по себе, вне связи с конкретным в мышлении, способно дать лишь фрагментарное, поверхностное представление о природе и явлениях культуры. Абстрактное мышление как таковое имеет большее отношение к людям малокультурным либо с невысоким уровнем культуры, которые именно в силу этого, как нами уже говорилось выше, легко поддаются на различные межкультурные конфликты.
Таким образом, живые примеры, идеи, выводы и принципы, изложенные в работе Гегеля «Кто мыслит абстрактно?», до сих пор не лишены актуальности. В ней по-прежнему ощущается современное звучание.