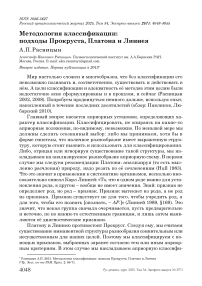Методология классификации: подходы Прокруста, Платона и Линнея
Автор: А.П. Расницын
Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis
Статья в выпуске: 2571 т.34, 2025 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140312627
IDR: 140312627
Текст статьи Методология классификации: подходы Прокруста, Платона и Линнея
Второе издание. Первая публикация в 201 3*
Мир настолько сложен и многообразен, что без классификации его невозможно познавать и, соответственно, существовать и действовать в нём. А цели классификации и адекватность её методов этим целям были недостаточно ясно сформулированы и в прошлом, и сейчас (Расницын 2002, 2008). Попробуем продвинуться немного дальше, используя опыт, накопленный в течение последних десятилетий (обзор: Павлинов, Любарский 2010).
Главный вопрос касается априорных установок, определяющих характер классификации. Классифицировать, не опираясь на какие-то априорные положения, по-видимому, невозможно. По меньшей мере мы должны сделать осознанный выбор: либо мы принимаем, хотя бы в форме гипотезы, что наличное разнообразие имеет выраженную структуру, которую стоит выявить и использовать для классифицирования. Либо, отрицая или игнорируя существование такой структуры, мы накладываем на анализируемое разнообразие априорную схему. В первом случае мы следуем рекомендации Платона: анализируя (то есть мысленно расчленяя) природу, надо резать по её сочленениям (Hull 1983). Что это значит в применении к систематике организмов, несколько иносказательно описал Карл Линней: «То, что в одном роде важно для установления рода, в другом – вообще не имеет значения. Знай: признак не определяет род, но род – признак. Признак вытекает из рода, а не род из признака. Признак существует не для того, чтобы учредить род, а для того, чтобы его познать [опознать, – АР .]» (Линней 1989, §169). Это значит, что некая группа сначала очерчивается, пусть предварительно и неточно, по по каким-то естественным границам, и лишь затем выявляются её диагностические признаки.
Платону и Линнею противостоит Прокруст. Следуя ему, мы считаем существование имманентной структуры разнообразия сомнительным или несущественным для наших целей. Поэтому мы классифицируем с помощью признаков, выбранных заранее согласно тем или иным априорным критериям. В этом случае мы накладываем априорную классифи- кационную схему на естественное многообразие объектов, как Прокруст накладывал априорную мерку своего ложа на несчастного путника.
Конечно, эта дихотомия сильно упрощает ситуацию: на самом деле два описанных подхода представляют только концы непрерывного ряда. Действительно, мы не можем выявить исходную (имманентную) структуру многообразия напрямую, а только с помощью доступных нам признаков. Мы не знаем механизмов, задающих разнообразие, поэтому значение признаков для выявления структуры многообразия нам заранее не дано и постигается лишь апостериорно (см. цитату из Линнея выше). Если, уповая на Платона, мы хотим полностью избежать априорных конструкций, нам следует опробовать ВСЕ возможные признаки, что недостижимо. Поэтому мы начинаем с использования наиболее доступных признаков, но в этом уже есть несомненная априорная составляющая, так как распределение наиболее доступных признаков (обычно это яркие признаки внешней морфологии) не обязательно случайно по отношению к искомой структуре многообразия (статистически адекватно ей).
С другой стороны, мы можем строить сугубо служебную, то есть заведомо прокрустову классификацию с помощью признаков, отобранных по априорным критериям. Тогда нам не следует претендовать на естественность классификации, её адекватность структуре многообразия. Подобные классификации, от алфавитного указателя до классификации жизненных форм или видов по характеру их ареала, бывают весьма востребованными по причине их удобства или ради конкретных практических целей. Но даже в алфавитном списке не исключена возможность отражения, пусть самого отдалённого, каких-то аспектов структуры многообразия, потому что названия даются не совсем случайно. Весьма обыч -но, например, название одного организма даётся как модификация имени другого, ему близкого, и в алфавитном указателе эти названия будут соседствовать, отражая близость соответствующих организмов.
Очевиден и промежуточный пример: строго филогенетическая (кла-дистическая) система строится по признакам, отобранным по априорному критерию значимости признака для установления родства. Поскольку структура природного многообразия в той или иной мере обусловлена его историей и, в частности, генеалогией организмов, такие системы должны более или менее соответствовать исходной структуре многообразия. Но как мы знаем, степень этого соответствия варьирует в очень широких пределах.
Таким образом, использование априорных критериев часто полезно, но эта полезность всегда требует обоснования и имеет свои границы.
Сравнение классификаций по их эффективности, совершенству, по тому, насколько они адекватны имманентной структуре многообразия, представляется возможным несмотря на то, что эта структура никогда не бывает известна в окончательном виде. Техника сравнения — вопрос особый, здесь её разбирать едва ли возможно. Очевидно только, что одним из решающих критериев должна быть устойчивость системы при включении в анализ всё новых групп организмов и новых признаков. При этом важно, чтобы среди классификаций, участвующих в сравнении, присутствовали те, что построены наименее априорными методами. Вопрос в том, что это за методы.
Люди так давно занимаются систематизацией окружающего мира и классификацией его объектов, что вполне могли чисто практически, ещё на донаучном этапе, нащупать адекватную процедуру классифицирования и ввести её, пусть в не вполне явном виде, в научный оборот. Более того, на мой взгляд это действительно было сделано давно и сформулировано, хотя и в несколько иносказательной форме, уже Линнеем («не признак определяет род, но род — признак»). Представленная выше простая и, возможно, для кого-то неожиданная интерпретация этого афоризма состоит в том, что методологически таксон первичен, а его диагностические признаки вторичны. Как уже говорилось, человек (безразлично, сегодняшний профессиональный систематик или член первобытного племени) сначала выделяет некую группу, и лишь потом ищет её диагностические признаки, чтобы легче её опознавать в самых разных условиях и обстоятельствах.
Тот, кто много занимался классификацией и сталкивался с новой или мало изученной группой, особенно большой и разнообразной, наверное, замечал, что вначале объект изучения производит впечатление бесструктурной каши. Потом, когда мы всё более и более внимательно знакомимся с этой группой, проверяем распределение всё новых и новых признаков, мы обнаруживаем в ней какие-то сгущения, группировки более сходных между собой объектов. Отталкиваясь от этих центров кристаллизации, мы пытаемся разобраться с тем, что находится между ними, на кого более похожи те виды, что остались в промежутках, и нет ли ещё подобных сгущений. По ходу дела мы пытаемся понять, что именно, какие признаки объединяют наши предварительные группировки, постоянно убеждаемся, что тот или иной признак, вначале казавшийся надёжным, где-то перестаёт хорошо работать, например, начинает варьировать внутри, казалось бы, хорошо очерченной группы. Другой признак срывается в ином месте, и так далее. Перебирая всё новые и новые признаки мы в конце концов обычно приходим к некоторому представлению о структуре группы, о её подчинённых группировках и соответственно о положении границ между ними и о признаках, маркирующих эти границы. Теперь можно уже окончательно проверять характеристики группировок и фиксировать их диагностические признаки, формулировать диагнозы, описания и сравнения, строить ключи. В результате такой работы приходит понимание, что таксон определяется именно положением границ, хиатусов, а признаки (строго по Линнею!)
диагностируют таксон, но не создают, не определяют его. В точном соответствии с этимологией слова: признак это то, что позволяет признать, опознать нечто, что уже существует. Признак – это метка, но не суть, не сущность.
Вопрос о сути совершенно отдельный, и здесь не место его разбирать подробно. Эту проблему исследует эпигенетическая теория эволюции (Шишкин 1987, 2006; Расницын 2002, 2008), однако самая яркая формулировка сущности таксона, того, что обуславливает его устойчивость и обособленность (наличие границ, хиатусов, отделяющих его от других таксонов), предложена знаменитым пропонентом альтернативной (синтетической, а точнее генетической) теории эволюции Эрнстом Майром: «эпигенотип вида, его система канализаций развития и обратных связей часто столь хорошо интегрирована, что с замечательным упорством противостоит изменениям» (1974, с. 353). Механизм стабилизации эпигенотипа, который обеспечивает дискретность (устойчивость и обособленность) таксонов естественной системы организмов, был обозначен автором как адаптивный компромисс (Расницын 1987).
Итак, традиционный таксон определяется хиатусом и соответствует понятию континуума. Континуум есть цепь или сеть, составленная из объектов, каждый из которых по совокупности признаков более сходен со своими соседями по цепи, чем с любыми другими объектами (членами других континуумов). Соответственно, континуумы разделены линиями наименьшего сходства (хиатусами). Важное преимущество классификации путём прослеживания хиатусов состоит в том, что в этом случае многообразие может быть разделено на таксоны-континуумы без перекрывания и без остатка (обособленные формы, уникальные по своим признакам, не составляют остатка, а рассматриваются как континуумы минимального объёма – монотипические таксоны того или иного ранга).
Напротив, наложение на многообразие прокрустова набора априорных признаков даёт либо широкое перекрывание этих признаков, либо, если мы принимаем каждое сочетание перекрывающихся признаков как маркер отдельного таксона и тем избегаем перекрывания, то получаем множество пустых таксонов, поскольку многие сочетания признаков в природе не реализуются.
Таксон-континуум – это чисто фенетическое понятие, отражающее сходство объектов. Соответственно, предлагаемый подход выглядит как оппозиция привычной, практически общепринятой и зарекомендовавшей себя практике учёта родственных отношения организмов при построении системы. Действительно, додарвинские и многие последарвин-ские системы, строившиеся как чисто фенетические (без всяких ссылок на родственные отношения), часто хорошо согласуются с последующими филогенетическими схемами. И это, конечно, не случайно. Структура биологического многообразия во многом определяется его историей и более узко – генеалогией составляющих его организмов. Во многом, но не во всём. Иначе познание филогенеза не было бы таким трудным делом. Иначе не существовали бы группы, в которых филогенез, надёжно установленный тем или иным способом (часто по последовательности оснований ДНК), не противоречил бы столь разительно сходственным отношениям организмов, отражённым в прежних классификациях. Таковы, например, прокариоты (см. Заварзин 1987), многие группы растений (Соколов 2006) и даже млекопитающие, как в скандальном случае афротериев (см. Банникова 2009; Агаджанян 2011; Абрамсон 2013).
Есть и другие свидетельства того, что структура биологического разнообразия определяется не одним только кладогенезом (особенностями процесса дивергенции), но во многом ещё и параллелизмами (сходными морфогенетическими потенциями родственных форм), и особенно – дифференциальным вымиранием, в частности, быстрой элиминацией промежуточных, недостаточно сбалансированных форм («принцип вымирания»: Дарвин 1991, с. 107). Именно этот процесс, названный созреванием таксона (Rasnitsyn 1996; Расницын 2002), вероятно, ответственен за парадоксальное, но широко распространённое явление, когда родственные отношения старших таксонов (семейств, отрядов) выявляются легче и выглядят более понятными, чем связи родов и видов, хотя очевидно, что дивергенция последних происходила относительно недавно, и её следы в распределении признаков должны были сохраниться лучше.
Несмотря на все эти оговорки, филогенез обладает большими прогностическими свойствами: он умеет предсказывать распределение ещё не известных и недостаточно изученных признаков, учёт которых мог бы значительно изменить видимую структуру сходств и различий. Однако эти прогностические свойства ограничены, а наши знания филогенеза всегда неполны и несовершенны, как это хорошо показывает практика кладизма и молекулярной филогенетики. В частности, даже эта последняя, считающаяся наиболее надёжным методом реконструкции генеалогии, оказалась далеко не лучшей по такому важному показателю, как её соответствие палеонтологической летописи. Летопись представляет собой не идеальное, но независимое отображение эволюционного процесса, и можно ожидать, что хорошая кладограмма (правильно отражающая кладогенез группы) будет в среднем лучше соответствовать палеонтологической истории группы. Однако на материале насекомых было показано, что молекулярная кладограмма по этому критерию ничуть не более успешна, чем морфологическая кладистика, и намного уступает традиционным (интуитивным, по терминологии кла-дистов) методам реконструкции филогенеза (Расницын 2010).
Поэтому требование сделать классификацию ВСЕГДА изоморфной кладограмме, то есть нашим сегодняшним представлениям о генеалогии группы, – это экстремизм. Построенные таким образом кладистические и молекулярные классификации не только часто и во многом противоречат распределению сходств и различий, но и оказываются неустойчивыми. Порой их приходится существенно перестраивать чуть ли ни после каждого нового исследования.
В то же время существует более мягкий и гибкий способ учитывать филогенез при классификации организмов, метод монофилетического континуума (филетика). По существу, филетическая таксономия – это просто формализация традиционного последарвинского метода построения системы организмов. Филетический метод многократно описан (Пономаренко, Расницын 1971; Расницын 1988, 1992, 2008) и не требует подробного изложения. Кратко можно сказать, что фенетический метод континуума (выделение таксонов по линиям хиатусов, как они прослеживаются при анализе распределения доступных признаков) даёт черновую версию системы, далее анализируемую филогенетически. В этом анализе мы прежде всего проверяем полученный таксоны на предмет их монофилии. Здесь важно отметить, что монофилия понимается шире, чем в кладизме, и включает парафилию наряду с голофилией. Другими словами, монофилетическим мы – вполне традиционно – считаем любой таксон, возникший единым корнем, независимо от того, включает ли он все ветви от этого корня, как в голофилетическом таксоне, или некоторые его ветви выходят за пределы таксона, как в случае парафилии.
Если при таком анализе мы не обнаружили признаков полифилии таксонов, система принимается для дальнейшего использования. Если же признаки полифилии обнаружены (неважно, в ходе ли данного исследования или в любой последующий момент), система не отбрасывается, а выполняется её новый анализ на более широком материале, чтобы проверить, насколько надёжны как вновь обнаруженные свидетельства полифилии, так и те признаки сходства, которыми ранее было обосновано выделение соответствующих таксонов. Опыт показывает, что более широкий анализ обычно позволяет найти новый компромисс между филогенией и распределением признаков. Систему удаётся либо сохранить в прежнем виде, либо реорганизовать, восстановив монофилию (в указанном смысле) всех её таксонов.
Традиционный метод построения системы требует от систематика глубоких и разносторонних знаний – знания морфологии, онтогенеза, экологии, палеонтологии, закономерностей эволюции данной и смежных, а лучше и более далёких групп, палеоэкологии, палеоландшафтов, палеоклимата и т.п. Этот метод не свободен от личностных особенностей исследователя и, соответственно, от субъективности, и его нельзя целиком перепоручить компьютеру. Но ведь субъективность неискоренима и из других, будто бы строго объективных методов. Просто там она заметается под ковёр: меняются параметры расчётов, убираются признаки, влияющие на результат неприемлемым образом, и т.д. Считается, что для кладистического и молекулярного изучения филогении и систематики (что для них практически одно и то же) нужно, помимо владения соответствующими методиками и аппаратурой, иметь лишь надёжно определённый материал и, в случае кладизма, умение набрать достаточное число филогенетически важных признаков. Однако эта скромность в запросах по части глубины знания объекта и ориентация на вне-личностное (строго объективное) знание оборачивается потерями в отношении глубины и надёжности результатов исследования.
Все сказанное позволяет заключить, что Прокрустов топор может служить весьма эффективным инструментом для решения определённого круга задач, но стратегически, имея в виду создание общей системы организмов как междисциплинарного языка и как отображения таксономического аспекта биологического многообразия, скальпель Платона безусловно предпочтительнее.
Пользуюсь случаем выразить свою искреннюю признательность организаторам совещания «Современные проблемы биологической систематики» (Санкт-Петербург, апрель 2011 года) за приглашение и помощь на Совещании и при подготовке рукописи.