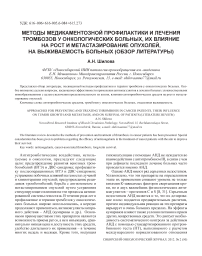Методы медикаментозной профилактики и лечения тромбозов у онкологических больных, их влияние на рост и метастазирование опухолей, на выживаемость больных (обзор литературы)
Автор: Шилова А.Н.
Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj
Рубрика: Обзоры
Статья в выпуске: 2 (50), 2012 года.
Бесплатный доступ
Представлен обзор литературы, посвященный методам профилактики и терапии тромбозов у онкологических больных. Осо- бое внимание уделено вопросам, касающимся эффективности применения антикоагулянтов в лечении больных злокачественными новообразованиями с целью увеличения продолжительности их жизни, влиянию антитромботических средств на рост и метаста- зирование опухолей.
Антитромботические средства, тромбозов у онкологических больных, отдаленная выживаемость
Короткий адрес: https://sciup.org/14056210
IDR: 14056210
Текст обзорной статьи Методы медикаментозной профилактики и лечения тромбозов у онкологических больных, их влияние на рост и метастазирование опухолей, на выживаемость больных (обзор литературы)
Антитромботические воздействия, используемые в онкологии, преследуют следующие цели: предупреждение развития венозных тромбоэмболий (ВТЭ) и ДВС-синдрома; профилактику послеоперационных ВТЭ и ДВС-синдромов; устранение побочных влияний на гемостаз лучевой и химиотерапии опухолей; предупреждение рецидивов тромбоэмболий; борьба с ангиогенезом и метастазированием опухолей путем устранения стимулирующего влияния на эти процессы активированной системы гемостаза. В течение ряда лет в профилактике и терапии тромбозов у онкологических больных широко использовались, а нередко продолжают применяться, антикоагулянты непрямого действия – АНД (кумарины и др.). Основными преимуществами этих препаратов являются возможность приема per os, а не в инъекциях, сравнительно низкая цена и доступность этих средств, удобство длительного их применения – в течение многих недель и месяцев. Кроме того, индукция гипокоагуляции с помощью АНД не нуждается во взаимодействии с антитромбином III, в связи с чем при дефиците последнего лечение больных часто проводится именно АНД.
Однако АНД имеют ряд серьезных недостатков. Установлено, что эти препараты на определенном этапе их применения снижают уровень не только витамин К-зависимых факторов свертывания крови, но и двух важнейших физиологических антикоагулянтов – протеинов С и S [8, 31]. Серьезным недостатком АНД является и то, что их дозирование плохо поддается предварительным расчетам, причем индивидуальная реакция на эти препараты варьирует в очень больших пределах. На эффекты кумаринов влияют также условия питания и прием других лекарственных средств. Это диктует необходимость систематического контроля за действием АНД с помощью стандартизированного протромбинового теста (ПТ), выполняемого с расчетом международного нормализованного отношения
(МНО) . Для онкологических больных это имеет особое значение, поскольку у них геморрагические осложнения могут возникать при сравнительно низком уровне международного нормализованного отношения (МНО) – в пределах 2,0–3,0. Во многих же случаях вообще нет корреляции между величиной МНО и появлением геморрагических осложнений [28, 32]. Подчеркивается, что АНД даже в умеренных дозах вызывают у онкобольных геморрагические осложнения в 2–6 раз чаще, чем при других заболеваниях [30, 44]. Отдельные исследования показали, что наращивание доз этих препаратов часто усиливает лишь гипокоагуляцию, но не антитромботический эффект [20].
В настоящее время основной методологией профилактики и терапии тромбозов в онкологии стало применение антикоагулянтов прямого действия, к которым относят нефракционированные (НГ) и низкомолекулярные гепарины (НМГ). НГ, как известно, представляют собой смесь сульфатированных мукополисахаридов, получаемых из слизистой оболочки кишечника животных. Отношение активности анти-Ха/анти-IIа у большинства НГ варьирует от 1:1 до 1:2. В клинической практике все чаще применяют НМГ, которые получают путем ферментативной или химической деполимеризации НГ. В нашей стране в основном используются три НМГ: надропарин (фраксипарин), дальтепарин (фрагмин) и эноксапарин (клексан). Отношение активности анти-Ха/анти-IIа для разных НМГ колеблется от 2:1 до 4,1:1. Таким образом, НМГ в отличие от НГ преимущественно ингибируют фактор Ха, а не тромбин. Общеизвестны преимущества профилактического применения НМГ перед НГ: значительно более высокая, чем у НГ, биодоступность, более длительный период полувыведения из плазмы, что позволяет вводить эти препараты подкожно 1–2 раза в сут, преобладание антитромботического эффекта над антикоагулянтным. НМГ несколько менее геморрагичны, чем НГ, и в значительно меньшей степени вызывают остеопороз. Они, как правило, не стимулируют и не усиливают агрегацию тромбоцитов, в меньшей степени связываются с острофазовыми белками, сохраняя свое действие при воспалительных, иммунных и неопластических заболеваниях без наращивания доз препаратов. В связи со значительно меньшим сродством НМГ к антигепариновому фактору тромбоцитов эти препараты намного реже, чем НГ, вызывают гепариновую тромботическую тромбоцитопению [1, 7, 35, 53–57].
Общепризнанно, что профилактическое применение НМГ не нуждается в контроле за параметрами коагулограммы и более удобно для применения вне стационара. Вместе с тем по ряду свойств НМГ и НГ не отличаются друг от друга. Так, например, НМГ, подобно НГ, стимулируют поступление в кровь ингибитора тканевого пути свертывания (TFPI), что важно в свете данных о ведущей роли активации внешнего механизма свертывания крови в генезе тромбозов на фоне опухолевого процесса [2, 3].
Перечисленные выше свойства гепаринов способствовали значительному расширению сферы их применения. Эти препараты широко используют для профилактики послеоперационных тромбоэмболий, в том числе и у онкологических больных . И хотя в настоящее время четко установлено, что назначение НМГ или НГ приводит к снижению частоты ВТЭ у пациентов, оперированных по поводу рака , остаются противоречивыми данные о сравнительной эффективности и безопасности применения разных гепаринов в онкологической практике. Ряд авторов считает, что НМГ и НГ одинаково безопасны. В других исследованиях количество геморрагических осложнений у онкобольных было достоверно меньшим при использовании НМГ, чем при применении НГ [11, 18, 21]. В то же время было показано, что увеличение дозы НГ или НМГ сопровождается повышением эффективности препаратов , без нарастания опасности геморрагических осложнений [12]. По мнению большинства исследователей, профилактическое использование НМГ у оперированных онкобольных по крайней мере также эффективно, но более удобно (уменьшение частоты введения препарата), чем применение НГ [25–27, 37].
Однако до настоящего времени многие аспекты практического использования антитромботи-ческих средств при данной патологии остаются малоизученными, служат причиной недостаточной эффективности этих препаратов. До самого последнего времени в литературе царит полный произвол в определении необходимых сроков профилактического применения антикоагулянтов в послеоперационном периоде как у онкобольных, так и при других видах патологии. В большинстве работ эти сроки ограничиваются первыми 5–14
днями послеоперационного периода [6, 51]. При этом отсутствуют какие-либо обоснования избранных сроков применения препаратов, нет четких данных о том, в какой степени такая профилактика устраняет опасность развития тромбоэмболий в более позднем периоде. Лишь в последние годы у больных с высоким риском развития послеоперационных ВТЭ, в том числе и у онкологических пациентов, стала очевидной необходимость пролонгированного применения антитромботических средств [45].
Пролонгированная профилактика тромбозов у онкологических больных необходима не только при хирургических вмешательствах, но и при проведении химио- и лучевой терапии, а также при установке центральных венозных катетеров [19, 38]. Необходимость в длительном применении антикоагулянтов (по крайней мере, в течение 3–6 мес) возникает и при лечении ВТЭ. Очевидно, что для такой длительной профилактики и терапии тромбозов НГ неприемлемы. В этой ситуации возможно лишь длительное применение НМГ, либо перевод больных с начального использования НМГ на прием антикоагулянтов непрямого действия [14, 23, 33, 34, 36, 50]. Однако польза такого перевода больных с НМГ на АНД пока не доказана. Поэтому в последние годы предпринимаются попытки лечения больных новыми пентасахаридами (пентатлон, оргаран, арикстра и др.) либо новыми синтетическими ингибиторами тромбина (мела-гатран и др.), в том числе и принимаемыми per os (ксимелагатран), первые испытания которых показали достаточно высокую эффективность [22, 52]. Антитромботический эффект этих двух групп препаратов оказался, по предварительным данным, выше, чем у НМГ, а длительное применение более доступным и удобным по сравнению с другими антитромботическими средствами. Тем не менее пока остается не изученной эффективность синтетических пентасахаридов и ингибиторов тромбина в профилактике онкотромбозов, а также их влияние на эволюцию опухолевого процесса. Несомненным преимуществом НМГ, как и синтетических пентасахаридов и ингибиторов тромбина, является то, что их применение не нуждается в мониторировании по эффектам воздействия на параметры коагулограммы, что облегчает использование этих средств при длительной профилактике онкотромбозов и их рецидивов, в том числе и в амбулаторной практике.
В течение последних лет в литературе обсуждаются вопросы, касающиеся эффективности применения антикоагулянтной терапии в лечении онкологических больных с целью увеличения продолжительности их жизни, влияния антитром-ботических средств на рост и метастазирование опухолей. Известно, что активация системы гемостаза играет непосредственную патогенетическую роль в прогрессировании опухолевого процесса и в метастазировании. Доказано также, что раковые клетки, свободно циркулирующие в сосудистом русле, не образуют метастазов. Однако при взаимодействии опухолевых клеток с тромбоцитами и макрофагами при образовании на этих клетках фибрина возникают тромбоонкогенные эмболы, которые, задерживаясь в зоне микроциркуляции и взаимодействуя с эндотелием сосудов, могут стать основой формирования метастазов [4, 13]. Показано, что активированные протеазы, участвующие в процессе гемокоагуляции, также влияют на поведение опухолевых клеток на экспериментальных моделях, увеличивая их подвижность, инвазивную способность, рост, а также ангиогенез в новообразовании [43, 46, 47].
Имеющиеся в литературе сведения о влиянии антикоагулянтов на метастазирование опухоли и выживаемость онкологических больных отрывочны и противоречивы. Так, например, S.A. Mousa, S. Mohamed (2001) в эксперименте показали, что непрямые антикоагулянты ингибируют рост опухоли и образование метастазов, увеличивают сроки жизни экспериментальных животных [40]. По данным S. Schulman, P. Lindmarker (2000), у онкобольных, принимавших варфарин в течение 6 мес с целью профилактики рецидивирующего венозного тромбоза, отмечалась более низкая частота заболеваемости злокачественными новообразованиями в течение последующих 6 лет в сравнении с пациентами, получавшими тот же препарат в течение 6 нед [48]. В то же время S.M. Smorenburg et al. (2001). рассмотрев все клинические сообщения о действии антагонистов витамина К на выживаемость больных раком, пришли к выводу, что результаты были недостаточно очевидны, чтобы утверждать, что антагонисты витамина К повышают выживаемость онкологических пациентов [49]. НГ стимулирует внутрисосудистую активацию и агрегацию тромбоцитов, в связи с чем он может усиливать процесс образования тромбоонкогенных эмболов и образование метастазов [5, 53, 56], тогда как НМГ оказывают антиангиогенное и антимета-статическое действие [10, 16, 17, 39, 41], повышают выживаемость больных [9, 15, 24, 25, 29, 42].
Таким образом, лекарственная коррекция системы гемостаза у онкобольных становится неотъемлемой частью тактики лечения этих больных, поскольку это не только профилактика ВТЭ, но и метастазирования. Дальнейшие исследования, посвященные коррекции гемостаза при злокачественных новообразованиях, являются актуальными и перспективными.