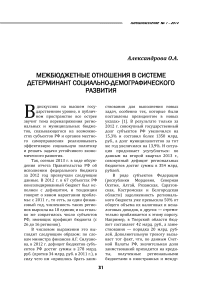Межбюджетные отношения в системе детерминант социально-демографического развития
Автор: Александрова Ольга Аркадьевна
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Социальная и демографическая политика
Статья в выпуске: 1 (63), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются причины роста задолженности региональных и местных бюджетов и снижения их инвестиционной активности. Показано, что выход из сложившейся ситуации надо искать не только в совершенствовании системы межбюджетных трансфертов, но, прежде всего, в проведении федеральным центром такой экономической политики, которая бы создавала условия для промышленного развития. Другой ключевой фактор - приведение объема расходов федерального бюджета на социальную сферу в соответствие с реальными потребностями ее отраслей и задачами социально-демографического развития.
Межбюджетные отношения, социальная политика, региональное развитие, местное самоуправление
Короткий адрес: https://sciup.org/14347494
IDR: 14347494
Текст научной статьи Межбюджетные отношения в системе детерминант социально-демографического развития
В дискуссиях на высшем государственном уровне, в публичном пространстве все острее звучит тема перенапряжения региональных и муниципальных бюджетов, сказывающегося на возможностях субъектов РФ и органов местного самоуправления реализовывать эффективную социальную политику и решать задачи устойчивого экономического развития.
Так, осенью 2013 г. в ходе обсуждения отчета Правительства РФ об исполнении федерального бюджета за 2012 год прозвучали следующие данные. В 2012 г. в 67 субъектах РФ консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом, и тенденции говорят о явном нарастании проблемы: с 2011 г., то есть, за один финансовый год, численность таких регионов выросла на 10 единиц и на столько же сократилось число субъектов РФ, имеющих профицит бюджета (с 26 до 16 регионов).
В числовом выражении это выглядит следующим образом: по словам министра финансов А.Г. Силуанова, в 2012 г. дефицит бюджетов субъектов РФ достиг суммы в 278 млрд. руб. (против 34 млрд. руб. в 2011 г.), в силу чего им «пришлось брать заим- ствования для выполнения новых задач, особенно тех, которые были поставлены президентом в новых указах» [1]. В результате только за 2012 г. совокупный государственный долг субъектов РФ увеличился на 15,3% и составил более 1350 млрд. руб., а долг муниципалитетов за тот же год увеличился на 13,9%. И ситуация продолжает усугубляться: по данным на второй квартал 2013 г., совокупный дефицит региональных бюджетов достиг суммы в 354 млрд. рублей.
В ряде субъектов Федерации (республики Мордовия, Северная Осетия, Алтай, Рязанская, Саратовская, Костромская и Белгородская области) задолженность регионального бюджета уже превысила 50% от общего объема их налоговых и неналоговых доходов, в других — стремительно приближается к этому порогу. Например, в Тверской области бюджет составляет 42 млрд. руб., а заимствования — порядка 20 млрд. рублей. Дополнительную тревогу вызывает тот факт, что, по данным Счетной Палаты РФ, значительная доля заимствований приходится на кредиты, полученные региональными бюджетами в иностранных и между- народных кредитно-финансовых организациях [2].
Важно также отметить, что перекладывание на регионы все новых расходных обязательств при ухудшающейся экономической конъюнктуре приводит к тому, что средств непосредственно на развитие в региональных бюджетах практически не остается.
Так, в 2012 г. на инвестиции пошло только 13,4% региональных расходов, в целом же расходы на инвестиционное развитие снизилось за год почти на 2%.
При этом, как подчеркивает, например, председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья С.В. Калашников, «2012 год был последним тучным годом, нас ожидает череда тощих лет и то, что не было сделано в 2012 году будет многократно умножено в негативном плане в последующие годы, причем речь идет не только о 2013-2016 годах, но и о гораздо более длительной перспективе». И действительно: говоря о тенденциях в экономической конъюнктуре, министр финансов так же указал, что если в 2012 г. поступления от налога на прибыль еще имели положительную динамику, то в 2013 г. за три первых квартала снизились на 20% [1].
Инициированная Министерством финансов РФ в 2012 г. реструктуризация части долгов региональных бюджетов на длительный (десятилетний) период даже депутатам от правящей партии видится не решающей проблему по существу. В отсутствие стратегического плана развития регионы и далее будут накапливать долги, и это неминуемо будет вести к аккумулированию все более серьезных социально-экономических проблем как на региональном и местном уровнях, так и на уровне федерального центра.
В пользу такого вывода говорит и тенденция последовательного сокращения доли расходов федерального бюджета на помощь субъектам РФ: если в 2009 г. она составляла 15,3%, то в 2012 г. — уже 11,2%. Более того, даже выделяемые регионам средства, в рамках давно сложившейся порочной практики, поступают в региональные бюджеты далеко не вовремя. Например, в 2012 г. субсидия на улучшение плодородия почв в размере 242 млрд. руб. была перечислена регионам в декабре; в результате в январе 2013 г. 65 субъектов РФ вернули эти средства как неиспользованные в федеральный бюджет. Аналогичная ситуация и с другими расходными статьями бюджета: например, на конец второго квартала 2013 г. субъектам Федерации не были перечислены субсидии на жилье для детей-сирот; ряд регионов также не получил и полагающихся им средств на поддержку малого бизнеса.
Правительство предполагает решать проблемы, во-первых , за счет ужесточения бюджетно-финансовой дисциплины. Известно, что Бюджетный кодекс РФ накладывает ограничения на величину дефицита регионального бюджета (не более 15 %) и его долга (не более 100% от налоговых и неналоговых доходов). Соответственно, при заключении соглашений с субъектами РФ, превысившими критические пороги, правительство оговаривает, что при выделении им дополнительной финансовой помощи ее размер будет зависеть от того, в какой мере субъект РФ придерживается установленных ограничений.
И, во-вторых, — путем усиления доходной базы региональных и мест- ных бюджетов за счет изменений в имущественном налогообложении, в первую очередь — налога на имущество предприятий, организаций и налога на имущество физических лиц, рассчитываемых не по остаточной стоимости имущества и записям БТИ, а по его кадастровой оценке.
Однако и на этом направлении возникает ряд серьезных вопросов, связанных, в частности, с соразмерностью исчисляемых таким образом налогов уровню доходов абсолютного большинства россиян. Например, в Московской области налог на землю, исчисленный в соответствии с кадастровой стоимостью, вырос в 4 раза и достиг размера среднемесячной пенсии. Кроме того, как следует из отчета Счетной Палаты РФ о проверке Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) в части выполнения подпрограммы, касающейся составления государственного кадастра недвижимости, серьезные проблемы имеются в отношении самой информации об имуществе граждан и юридических лиц. Так, более 60% сведений об объектах недвижимости либо не внесены в кадастр, либо внесены некорректно – притом, что 98% средств (боле 42 млрд. рублей), выделенных на эту работу, уже израсходованы. В результате физические и юридические лица вынуждены за собственные деньги повторно проводить работы по подготовке технической документации на объекты недвижимости с целью их внесения в кадастр [3].
В описанной ситуации упор на развитие доходной базы субъектов РФ за счет имущественного налога чреват ростом социального напряжения. Притом что, по мнению экспертов, совокупные масштабы задол- женности региональных бюджетов таковы, что даже повышение ставки имущественного налога и переоценка базы, с которой он взимается, вряд ли позволят серьезно облегчить такое кредитное бремя.
Серьезность сложившейся ситуации на фоне межрегиональных диспропорций, представление о ее пагубности для социально-демографического развития российских регионов и страны в целом заставляет структуры государственного управления вновь обращаться к вопросу повышения эффективности межбюджетных отношений [4, 5].
В то же время, следует отметить, что методы, позволяющие содействовать выравниванию бюджетной обеспеченности территорий, в принципе, известны (упор на немобильные налоги; закрепление за местным самоуправлением и регионами относительно просто администрируемых налогов и т.п.) и неоднократно предлагались экспертами, изложены в материалах парламентских слушаний, научных публикациях и т.д. Поэтому, представляется, что подробно останавливаться на вопросах не принципиального, а, скорее, технического характера, нецелесообразно. Тем более, что фактором, заставляющим федеральный центр задумываться об эффективной межбюджетной политике, является повышение социального напряжения на разных территориях и в разных социальных группах, спорадически прорывающегося в протестных акциях и отражающегося в повышении общего уровня тревожности в сегодняшнем российском социуме [6].
Последнее обусловлено наблюдающимся на фоне замедления темпов развития экономики ростом стоимости жизни, в том числе, за счет расширения коммерциализации социальной сферы, снижения реальной доступности бесплатных социальных благ.
Не случайно первому лицу государства приходится регулярно обсуждать эти проблемы в публичном пространстве, указывая, в том числе, на негодное выполнение его так называемых майских указов [7].
Разумеется, совпадение ряда неблагоприятных факторов тем сильнее дает о себе знать, чем меньше демпфирующие возможности региональных и местных бюджетов и их инвестиционный потенциал. При этом многие проблемы пополнения бюджетов территорий связаны с факторами, лежащими за пределами непосредственно бюджетно-налоговой политики. В силу этого разговор о бюджетной обеспеченности территорий представляется необходимым начать с концептуальных вопросов взаимоотношений регионов и федерального центра.
Очевидно, что межбюджетные отношения определяются исторически сложившимся соотношением сил между федеральными, региональными и местными центрами влияния, предысторией отношений Центра и регионов, а также стратегией развития государства. При этом последние тринадцать лет характеризуются почти повсеместным мощным перевесом сил Центра — за исключением нескольких национальных республик, прежде всего, Чечни, Дагестана, Татарстана. Нынешние взаимоотношения с этими субъектами РФ — следствие сугубо политического компромисса и имеют минимальное отношение к вопросам осознанной стратегии социального и экономического развития страны и конкретных регионов.
Во взаимоотношениях же между Москвой и абсолютным большинством регионов у федерального центра сегодня руки развязаны для проведения практически любой бюджетной политики, как более, так и менее сбалансированной — в зависимости от целей и интересов, которые реализует федеральная власть.
Применительно к федеративному государству с существенной степенью централизации конкурируют два фундаментальных подхода.
Первый — «Регионы и муниципалитеты должны сами зарабатывать».
Этот подход предусматривает некую конкуренцию (подразумевается, что более или менее равную) между регионами и муниципалитетами как субъектами хозяйственной деятельности. При этом допускается существенное различие в бюджетной обеспеченности регионов и муниципалитетов вследствие закрепления за ними собственных источников доходов (собственных налогов, а также фиксированного процента от расщепленного федерального налога). В значительной степени именно этот подход сегодня и реализуется, приводя к подчас зашкаливающему уровню межрегиональной и субрегиональной дифференциации.
Второй — «Единое государство должно обеспечить единые стандарты инфраструктуры жизнеобеспечения и соцобеспечения граждан, независимо от места их проживания».
Этот подход основан на том, что разные регионы и муниципалитеты объективно различаются предысторией и условиями экономической деятельности. И, соответственно, «зарабатывание» одними и «не зарабатывание» другими является в большинстве случаев следствием не столько высокого уровня организа- ции управления на соответствующих территориях, сколько следствием объективных различий между регионами в условиях хозяйственной деятельности.
К этому следует также добавить фактор, на который обычно обращается меньше внимания, но в ряде случаев он может выступать как главенствующий. Регионы и муниципалитеты не живут своей отдельной жизнью в изолированном пространстве, а развиваются в контексте тех экономических правил и условий, которые задаются федеральной властью. Речь идет о таких фундаментальных вопросах, как кредитно-денежная и налоговая политика; политика протекционизма в отношении своего производительного сектора или, напротив, открытости для зарубежных производителей аналогичных товаров и услуг и т.д.
Говоря о последнем нельзя не упомянуть о такой важной причине нынешнего плачевного состояния региональных и местных бюджетов, как присоединение России к ВТО в 2012 году. Невыгодные условия присоединения, помноженные на, в целом, неблагоприятную для развития производства кредитно-денежную и налоговую политику, стали пусковым механизмом спада в промышленности и сельском хозяйстве, снижения и оттока инвестиций из реального сектора экономики [8].
Судя по уже ставшим очевидными последствиям, можно предположить, что решение о ратификации договора о присоединении к ВТО не случайно было принято без получения согласия региональных законодательных органов, хотя такого рода вопросы и находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ.
Еще одним важным вопросом, находящимся в компетенции федерального центра и оказывающим существенное влияние на экономическое положение территорий, является политика в области обеспечения инфраструктурой, необходимой для промышленного развития, включая транспортную, энергообеспечения и т.д. Причем важен не только уровень обеспеченности того или иного региона или муниципалитета инфраструктурой, но и ее доступность.
В совокупности с уже упомянутыми аспектами экономической политики этот вопрос может делать производство, естественное либо исторически привычное для данной территории и (при иной политике государства), вполне востребованное невыгодным, нерентабельным, нерациональным, и при этом не создавать условий и стимулов для развития какого бы то ни было иного производства в силу отсутствия свободных ниш спроса на соответствующую продукцию.
Элементы второго подхода в России также частично реализуются — предусмотрен механизм сглаживания диспропорций через систему дотаций, субсидий, субвенций и т.д. Представляется, что применительно к этому механизму должны ставиться два вопроса:
-
1) является ли данный механизм достаточным с точки зрения ответственности власти в централизованном государстве за единые условия жизни граждан;
-
2) насколько четко и однозначно данный механизм соответствует продекларированной стратегии развития государства.
Иначе говоря, какие стимулы — продуктивные или, напротив, направленные на паразитирование, формирует ныне действующий механизм выделения дотаций, субсидий, субвенций, и насколько это соответствует тому, что хотел бы стимулировать федеральный законодатель.
Таким образом, первый вопрос касается справедливости — немаловажного фактора для формирования центростремительных установок и упрочения национальной идентичности, а второй — стимулирования тех или иных моделей территориального развития.
Если оценивать стимулирующий эффект не только непосредственно самого механизма перераспределения, но и всей системы межбюджетных отношений (включая явно недостаточный объем перераспределяемых средств, а, нередко, и неадекватность их направления), то можно сказать, что вместо искомой «конкуренции муниципалитетов и регионов» сложившаяся система порождает массовую миграцию, буквально бегство населения из регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Аналогичные потоки формируются на муниципальном уровне.
Центрами притяжение населения в рамках реализуемой весь постсоветский период социально-экономической политики становятся мегаполисы. Таким образом, происходит стимулирование чрезвычайной концентрации населения в ограниченном количестве мегаполисов, изначально никак не рассчитанных на такое количество населения.
Отсюда — чрезвычайное перенапряжение сил (если говорить об интегральном общенациональном эффекте) и колоссальные расходы на дорогие проекты по приспособлению уже и так перенаселенных мегаполисов к обеспечению еще большего количества жителей, а также огромные непроизводительные траты времени, а, значит, и прочих жизненных ресурсов населения России на бесконечные транспортные пробки и т.д. Таким образом, наблюдаемая ныне сверхме-гаполизация, приводящая крупные города буквально к коллапсу, в значительной степени является следствием сложившейся практики межбюджетных отношений.
В связи с этим важно подчеркнуть, что сверхмегаполизация не является в современном мире главенствующей и рассматриваемой в качестве, безусловно, прогрессивной тенденцией. В частности, известно о целенаправленной политике рассредоточения населения по территории страны в таких, казалось бы, разных государствах, как Республика Беларусь и США.
Вследствие комплекса мер значительная часть жителей покинула мегаполисы, поселившись за их пределами в современных не сверх урбанизированных поселениях с условиями жизни по ряду параметров радикально лучших, нежели в мегаполисах. Так, в США, где проблему «мегапо-лисного тупика» осознали еще в 1960-е годы, за двадцать лет из городов в сельскую местность перебрались 6,5 млн. американцев, и сегодня в малоэтажных домах в США (также как и в Канаде) проживают 70-90% населения.
В Белоруссии за последние годы построено 1500 агро-городков, около 700 из которых уже аттестованы как соответствующие всем требованиям для комфортного проживания и работы [9]. При этом, по данным социологического исследования «Доступное жилье — что хочет население», и в России более 60% респондентов, независимо от уровня дохода, предпочли бы, при наличии соответству- ющих условий, жить за городом в индивидуальном доме [10].
Применительно к России, несмотря на наличие мало пригодных для постоянного проживания огромных северных пространств, имеются колоссальные площади, вполне подходящие для более свободного расселения граждан. Этот вопрос может и должен стать приоритетным и войти важной составляющей в стратегию развития российского государства, в том числе, стратегию межбюджетных отношений.
Следующий дискуссионный вопрос — о пропорциях распределения средств между федеральным центром и регионами, между региональным и муниципальным уровнем власти.
В свое время распределение налоговых поступлений между федеральным центром и субъектами РФ, в том числе и на законодательном уровне (в Бюджетном Кодексе), было установлено в соотношении 50 на 50%, однако с началом 2000-х годов в рамках принятия ежегодных Законов о федеральном бюджете оно трансформировалось до соотношения почти 70 : 30% в пользу федерального центра.
При этом, поскольку на федеральном уровне политически представлены Центр и регионы (через механизм Совета Федерации), а уровень местного самоуправления политически вообще никак не представлен, вопрос о четком и неизменном соотношении при распределении средств между муниципалитетами и субъектами РФ на федеральном уровне даже не ставится.
Фактически все отдается на откуп регионам, которые в этом вопросе проводят политику недвусмысленного «зажима» местного самоуправления, что вряд ли является адекват- ным с точки зрения распределения полномочий и ответственности.
Но, если у федерального центра концентрация средств сверх того, что необходимо для реализации его полномочий и ответственности, обосновывается необходимостью сохранения единства государства и ограничения центробежных тенденций («бюджетный поводок»), то применительно к взаимоотношениям между регионами и муниципалитетами подобный «поводок» не имеет даже такого оправдания, а носит, зачастую, чисто феодальный характер («финансовый вассалитет»). Представляется, что задача создания сильного местного самоуправления и устранения нынешних, вполне справедливых оснований у муниципалитетов «переводить стрелки» недовольства населения реалиями повседневной жизни на региональную и федеральную власть требует от федерального центра более однозначного и универсального для всей страны урегулирования данного вопроса на федеральном уровне.
Еще один аспект, который необходимо отметить, — тесная связь политики межбюджетных отношений с налоговой. В некотором смысле, каждая из них является составляющей другой. В силу этого, нельзя не рассмотреть вопрос о периодически возникающих инициативах по созданию свободных экономических зон, зон льготного налогообложения и т.п.
Такие идеи часто представляются как механизм стимулирования территориального развития.
В то же время российский опыт внедрения подобных зон свидетельствует о том, что они, скорее, являются механизмами ухода от налогообложения — без создания достаточных стимулов к подлинному про- мышленному, научно-технологическому и социальному развитию. Очевидно, что подобные «внутренние оффшоры» наносят удар по бюджетам соответствующих регионов и муниципалитетов. И потому следует понимать (а в рамках межбюджетных отношений — так и формулировать), что поступающие затем из федерального центра те или иные дотации или субвенции в такой ситуации – не помощь, а лишь компенсация выпадающих доходов (причем, как правило, лишь частичная) вследствие создания легальных механизмов, по существу, уклонения от уплаты налогов.
Следующий вопрос — о концептуально разных подходах к собственно межбюджетному выравниванию. Очевидно, что государственная политика может проводиться либо интегрального (по всем значимым параметрам качества жизни) выравнивания бюджетной обеспеченности в различных регионах, либо узкоцелевого, когда выравнивается доступ лишь, например, к медицинскому обеспечению, образованию и т.п. при допущении во всех прочих сферах колоссальной разницы в качестве жизни.
Например, когда доступность для населения медицинских услуг, оцениваемая наличием сети учреждений здравоохранения и численностью медицинского персонала, в регионах и муниципалитетах равная — но при неосвещенных улицах и неразвитой инфраструктуре, в том числе, и той, что призвана обеспечивать минимальные, связанные со здоровьем населения, требования (водопровод, канализация, дороги и т.п).
Как представляется, сегодня ставка сделана на второй, узкоцелевой вариант. Возможно — в силу сохраняющегося господства первого подхода к взаимоотношениям Центра и регионов, согласно которому регионы и муниципалитеты должны зарабатывать, хотя при этом игнорируются фундаментальные различия в условиях хозяйствования, в том числе, и вследствие макроэкономической, промышленной, инфраструктурной политики федерального центра, а возможно — в силу представлений о неподъемном характере задачи универсализации бюджетной обеспеченности на всей территории страны.
Однако представляется, что в рамках единого государства и, кроме того, в ситуации, когда до недавнего времени самостоятельное формирование субъектами РФ своей исполнительной власти вообще отсутствовало, а сегодня оно, хотя и реанимировано, но при сохранении мощного механизма воздействия со стороны федеральной власти, Центр должен брать на себя б о льшую ответственность за унификацию бюджетной обеспеченности территорий. То есть, цель должна стоять и декларироваться именно такая. Тогда нынешние меры по относительной унификации доступности для населения услуг здравоохранения и образования в регионах должны рассматриваться лишь как первый шаг — иначе говоря, как пока вынужденно ограниченное движение к более общей цели создания более равномерно распределенных по всей территории страны благоприятных условий жизни и развития граждан.
Необходимость принятия федеральным центром на себя большей ответственности в данной сфере диктуется и тем, что большинство населения, как показывают наши исследования, проявляет весьма серьезное неведение относительно механизмов самоуправления и представительной демократии, а также неверие в возможность их эффективной реализации в настоящий момент. В силу этого в массовом сознании доминируют идеи централизации государственного управления в социальной и экономической сферах [11].
Такая констатация никак не отменяет задачи развития местного самоуправления, а лишь указывает на то, что попытки федерального центра отмежеваться от нарастающих местных проблем и возложить ответственность за их негодное решение на региональные и местные органы власти вряд ли окажутся удачными. Другое дело, что эта задача решаема только в условиях реального, а не имитационного перераспределения между уровнями власти и управления не только экономических ресурсов, но и политического влияния, позволяющего территориям более внятно и настойчиво формулировать свои требования к макроэкономической политике Центра.
Обратимся теперь к вопросу об объемах необходимых территориям финансовых средств. И заметим, что вызывающие сегодня социальное напряжение эксцессы оптимизации сети учреждений социальной сферы (закрытие или неоправданное объединение учреждений с соответствующим сокращением численности персонала) связаны, в первую очередь, с недостаточным размером нормативов финансирования учреждений (в условиях перехода на подушевое финансирование) и мизерностью базовых ставок работников бюджетной сферы [12].
Таким образом, причина идущих из регионов тревожных сигналов коренится не только в несовершенстве межбюджетных отношений, но и в собственно бюджетной политике государства. А именно — в заведомом занижении бюджетных ассигнований на социальную сферу (что подтверждается как межстрановыми сопоставлениями, так и выявленными нами представлениями руководителей учреждений социальной сферы) с прямым или косвенным ориентированием ее учреждений на максимальное привлечение внебюджетных источников дохода. Притом, что, как показывают наши исследования, в абсолютном большинстве случаев объемы средств от предоставления населению платных услуг не позволяют в сколько-нибудь серьезной степени возмещать снизившееся бюджетное финансирование [13].
В результате относительно низкого уровня оплаты труда в российской экономике в целом, величина официально устанавливаемой в регионах средней заработной платы в большинстве субъектов РФ оказывается так же не высокой, и потому доведение оплаты труда таких важных категорий работников как учителя, врачи и т.п. до средней по региону (что во многих случаях уже произошло) практически не ощущается ими, тем более при одновременно заметно растущих трудовых нагрузках и стоимости жизни [12].
Вновь, теперь уже более конкретно, обратимся к вопросу о том, что необходимость в межбюджетных трансфертах тем меньше, чем более самодостаточными с экономической точки зрения являются те или иные административно-территориальные образования.
Проведенные нами в разный период исследования указывают на то, что к основным факторам, препятствующим экономическому развитию территорий и обретению муници- пальными образованиями необходимой для эффективного решения проблем населения ресурсной базы могут быть отнесены следующие [14].
-
1. «Несостоятельность», по выражению опрошенных нами региональных и местных руководителей, налогов, переданных на местный уровень в качестве основного источника наполнения местной казны. Причина «несостоятельности» — значительная неурегулированность земельных отношений и правового статуса имущества, принадлежащего физическим лицам. Так, применительно к имущественному налогу серьезной проблемой является процедурно сложный, затратный материально и по времени механизм регистрации имущества. Например, в сельской местности оформление земельного участка может обойтись в 2-2,5 раза дороже стоимости самой земли, а процедура оформления кадастрового паспорта может затянуться на долгие месяцы. Таким образом, препятствием формированию налогооблагаемой базы служат необоснованно высокие расценки на услуги государственных организаций и явно недостаточная численность их персонала. С учетом широкого развития коммерческих структур, предоставляющих услуги по оформлению собственности, и нередко располагающихся в зданиях соответствующих госучреждений, можно предположить, что эти ограничения являются намеренными, направленными на создание спроса на услуги частных фирм.
-
2. Низкая налоговая дисциплина в условиях отсутствия у муниципальных образований действенных рычагов ее повышения и необходимой мотивированности у территориальных органов федеральных ведомств в создании условий для эффективного сбора налогов, идущих в местную казну. Будучи субъектом налоговых взаимоотношений, местное самоуправление оказалось лишено полномочий по сбору налогов. В то же время у налоговой службы нет собственной мотивации для проявления особого усердия при сборе налогов, не поступающих в федеральный бюджет и, соответственно, не являющихся предметом ее отчетности.
-
3. Отсутствие у местного самоуправления действенных возможностей оказания воздействия на недобросовестных арендаторов муниципальных земель. Механизм направления предписаний, которым располагают местные власти, не оказывает на арендаторов, нерационально или недобросовестно использующих предоставленную им землю, должного эффекта. В то же время различные структуры, имеющие федеральную подчиненность (карантинные, природоохранные и тому подобные службы) и находящиеся вне контроля местной власти, наделены адекватными полномочиями, но не используют предоставленные им рычаги для исполнения надзорных функций. В итоге, административным наказаниям подвергаются не нарушители (арендаторы), а главы местных администраций .
-
4. Отсутствие гарантий стабильности прав собственности и необходимой степени защиты внутреннего рынка, а также демонополизации оптовых и сбытовых структур, что дестимулирует инициативу по созданию на местах новых производственных предприятий в промышленности и сельском хозяйстве.
-
5. Затрудненность процедуры получения кредитов для организации производства сельхозпродукции в масштабах личного подворья и отсутствие достаточного количества приемно-заготовительных структур.
-
6. Высокий уровень коррупции на региональном и местном уровнях, снижающий инвестиционную привлекательность территорий и разру-
- шающий среду, необходимую для стабильной производительной деятельности;
-
7. Сохранение практики передачи на уровень муниципальных образований, так называемых, отдельных государственных полномочий без соответствующего финансирования и т.д.
-
8. Определенный дефицит кадров на региональном и местном уровне, имеющих необходимый уровень квалификации и способных компетентно разобраться в сложном комплексе перманентно возникающих нововведений. На местном уровне и, особенно, в национальных республиках, эта проблема усугубляется традиционной клановостью, затрудняющей необходимую в системе управления свободу в сфере привлечения и ротации кадров.
Кроме того, наблюдается практика перекладывания территориальными отделениями федеральных ведомств (той же Кадастровой службы) своей работы на плечи муниципалитетов — без соответствующей финансовой компенсации. Причина в сохраняющейся «советской психологии», когда местное самоуправление рассматривается не как самостоятельный уровень государственного управления, а как низовые органы в системе исполнительной власти.
Кроме того, делу мешает реорганизация деятельности территориальных отделений Сбербанка РФ, состоящая в значительном сокращении числа его отделений, притом, что механизм уплаты налогов предусматривает использование банковской системы. В итоге жители сельских поселений, получив налоговое уведомление, должны для его оплаты предпринять непростую и недешевую поездку в районный центр.
Таким образом, в вопросе создания налоговой базы местного самоуправления и налогового администрирования наблюдается недоучет реалий, связанных со сбором отданных на местный уровень налогов. И, кроме того, имеется рассогласованность политики федеральных структур, приводящая к тому, что действия территориальных отделений федеральных служб и банка со значитель- ной долей государственного участия противоречат закладывавшейся в реформу системы государственного управления идее соответствия возможностей и ответственности.
Таким образом, в сложившихся экономических и социально-политических условиях бюджетные возможности регионов и местного самоуправления, детерминирующие перспективы их социально-демографического развития, определяются, прежде всего, политикой федерального центра. Именно здесь создаются стимулы или анти-стимулы для производительной деятельности, определяются приоритетные направления расходования средств, перераспределяются полномочия и ответственность между уровнями государственного управления.
Политико-экономическая логика постсоветского развития привела к тому, что голос регионов стал почти не слышен. Отсюда — уже традиционная ситуация, когда доходы федерального бюджета планируются по пессимистическому сценарию, и в результате в ходе его исполнения возникают масштабные дополни- тельные доходы, направляемые, согласно бюджетному законодательству, в Резервный фонд. А обслуживание кредитов, привлекаемых правительством для покрытия дефицита федерального бюджета, искусственно созданного занижением плановых доходов, обходится в астрономические суммы (320 млрд. руб. в 2012 г. и более 400 млрд. руб. по итогам трех кварталов 2013 г.), равные совокупным расходам бюджета на ЖКХ, охрану окружающей среды и СМИ [1].
Расчеты же доходов бюджетов субъектов РФ, напротив, формируются по оптимистическому сценарию, и здесь дело заканчивается колоссальным расхождением между запланированными доходами и возложенными на регионы расходными обязательствами.
И как следствие — ростом их долговой зависимости. Безнадежному должнику, как известно, не до развития, в том числе, и социально-демографического. Соответственно, разорвать эту «дурную бесконечность» может и должен федеральный центр, тем более, что именно у него для этого имеется весь необходимый арсенал средств.