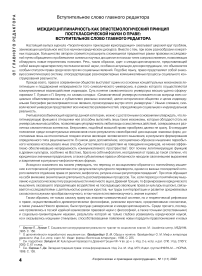Междисциплинарность как эпистемологический принцип постклассической науки о праве: вступительное слово главного редактора
Автор: Разуваев Н. В.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Статья в выпуске: 1 (11), 2022 года.
Бесплатный доступ
ID: 14123546 Короткий адрес: https://sciup.org/14123546
Текст ред. заметки Междисциплинарность как эпистемологический принцип постклассической науки о праве: вступительное слово главного редактора
Настоящий выпуск журнала «Теоретическая и прикладная юриспруденция» охватывает широкий круг проблем, занимающих центральное место в научном юридическом дискурсе. Вместе с тем, при всем разнообразии конкретных подходов, большинство авторов стремятся расширить сложившиеся предметные рамки правовых исследований путем обращения к проблематике смежных научных дисциплин в поисках точек соприкосновения, позволяющих обнаружить новые перспективы познания. Речь, таким образом, идет о междисциплинарности, представляющей собой важную характеристику постклассической науки, особенно актуальную для юриспруденции, что объясняется особым статусом права среди всех прочих социальных явлений. Подобно языку, право представляет собой знаковую (семиотическую) систему, опосредствующую разнохарактерные коммуникативные процессы социального конструирования реальности.
Прежде всего, право в современном обществе выступает одним из основных концептуальных механизмов легитимации и поддержания непрерывности того символического универсума, в рамках которого осуществляются коммуникативные взаимодействия индивидов. Суть понятия символического универсума весьма удачно сформулировали Т. Лукман и П. Бергер, по словам которых: «Символический универсум понимается как матрица всех социально объективированных и субъективно реальных значений; целое историческое общество и целая индивидуальная биография рассматриваются как явления, происходящие внутри этого универсума»1. Иными словами, символический универсум представляет все множество релевантностей, определяющих социальную и индивидуальную реальность.
Учитывая всеобъемлющий характер данной категории, можно с достаточными основаниями утверждать, что легитимирующую функцию в отношении нее способны выполнять лишь такие механизмы, которые обладают столь же универсальным масштабом, позволяющим упорядочивать любые виды осмысленных действий, совершаемых в различных семиотических контекстах. Безусловно, подобный масштаб право приобрело далеко не сразу. Его ведущее положение среди концептуальных механизмов стало результатом своеобразной диссоциации знаковых форм, достигаемым лишь на относительно поздних этапах эволюции человеческого мышления, в результате формирования определенного типа рациональности. В самом деле допонятийное, ассоциативно-образное мышление первобытного человека использовало иные способы суггестивного воздействия на поведение индивидов, не менее эффективно обеспечивавшие непрерывность коммуникативного пространства2. Вот почему легитимирующую функцию в древних культурах, особенно на Востоке, брала на себя мифология, неотделимая от права до такой степени, что юридически значимые предписания, а также субъективные права и обязанности находили свое внешнее выражение и закрепление в ритуально-мифологических формах.
Исходя из сказанного мы можем утверждать, что переход от ассоциативно-образного к понятийному мышлению в исторической ретроспективе стал результатом культурного переворота, одним из важных последствий которого является отделение права от религии, мифологии, ритуала и иных регуляторов поведения3. При этом обращает на себя внимание значительная длительность рассматриваемых процессов. Так, если переход к понятийному мышлению и доклассическому типу рациональности имел место еще в Древней Греции, то формирование юридического мышления, оказавшего определяющее воздействие на последующую эволюцию права (и культуры в целом), связывается исследователями с деятельностью римских юристов, чьи труды в интерпретации и развитии средневековых схоластов послужили прообразом научного, в том числе естественнонаучного, знания в целом4.
Таким образом, не только самому праву как знаково-символической системе, но и теоретической рефлексии о праве, осуществлявшейся древнегреческими философами, римскими юристами, средневековыми схоластами, а также учеными Нового времени, были присущи универсализм и междисциплинарность. Среди прочего, последние проявлялись в тесной идейной взаимосвязи правовой науки с философией, а также точными (естественными) и социально-гуманитарными науками, результаты которой не только глубоко усваивались юридической наукой, но и оказывались мощными стимулами, способствовавшими появлению новых парадигм правопонимания и новых подходов к осмыслению феноменов правовой реальности, становящихся доктринальной основой их конструирования.
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Высказанные соображения позволяют лучше понять причины, по которым междисциплинарность, являющаяся центральным эпистемологическим принципом постнеклассической науки в целом, оказалась особенно продуктивной установкой именно в юридических науках, глубоко воспринявших характерные черты постнеклассической картины мира. Речь идет, прежде всего, о восприятии права во всех его измерениях как сложной саморазвивающей-ся системы, обладающей признаками релевантности, самопорождаемости, рекурсивности, нелинейной динамики и т. п.
Принципиальной основой подобной установки служит признание правовой реальности человекоразмерной, а человеческой личности — онтологическим фундаментом правопорядка5. Человек в своей познавательной и практической деятельности конструирует реальность, артикулируя ее феномены в многообразных знаково-символических формах, позволяющих оперировать объектами в процессе коммуникативных взаимодействий индивидов. Результатом такой артикуляции становятся тексты, опосредствующие любые виды реальности, в том числе реальность правовую, которая, таким образом, предстает в качестве интертекстуального пространства, организованной совокупности множества текстов, порождающих взаимодействие смыслов, вкладываемых в эти тексты, в рамках единого гипертекста6.
Средством текстопорождения служит язык, представляющий собой знаково-нормативную систему, упорядочивающую коммуникативные взаимодействия индивидов и объективирующую результаты коммуникации7. Дуалистическая (знаково-нормативная) природа языка, выступающего важнейшей онтологической характеристикой человека и средоточием человеческого начала в реальности, позволяет рассматривать по образу и подобию естественного языка любые социальные феномены, включая право, которое, во-первых, организует процесс коммуникации и, во-вторых, облекает в текстуальные формы ее результаты.
Соответственно юридически релевантное поведение индивидов сторонниками постклассического правопони-мания рассматривается с позиций универсальной модели «язык → знак → текст», в которой право выступает в роли языка, субъективные права и юридические нормы являются знаками этого языка, а сама поведенческая модель представляет собой текст, строящийся по языковым правилам8. Следуя идеям А. А. Потебни и его последователей, мы можем понимать текст как организованное семиотическое единство в качестве формы образующих его знаков9. Причем если поведение (коммуникативные взаимодействия) участников правовой коммуникации представляет собой внутреннюю форму права, то его внешней формой выступают нормативно-правовые акты и иные источники, также являющиеся текстами, но текстами, воплощенными в знаках естественного языка.
Для адекватного понимания сказанного важно подчеркнуть, что речь идет не о более или менее удачной метафоре, но о сущностных характеристиках рассматриваемых феноменов, обладающих всеми необходимыми семиотическими признаками. Данное обстоятельство отмечал В. Кравитц, по словам которого: «Директивы — это язык. Нормы — поведение. Директива есть лингвистическое выражение, при помощи которого кто-то приказывает сделать нечто, и директива остается директивой независимо от того, эффективна она или нет. Норма есть образец поведения, который исполняется потому, что он воспринимается (прочувствуется, приживается) как обязательный, и это исполнение не зависит ни от каких директив»10. Таким образом, мир правовых феноменов, будучи совокупностью текстов (знаково-символических форм), опосредствуется языком права и правом как языком, воспринимаясь сквозь лингвосемиотическую призму11.
Данный постулат, ярко характеризующий постклассическое правопонимание, таит в себе известную опасность, поскольку в случае абсолютизации чреват тотальным релятивизмом и отрицанием объективности правовой реальности (равно как и объективной истинности познания права). Разнообразие синтаксических структур человеческих языков, множественность способов концептуализации феноменов реальности, при условии неразличения лингвистических и ментальных структур, приводят к утверждению относительности «языковых картин мира» различных народов, несовпадения этих картин во всех существенных аспектах. Отсюда, в свою очередь, делаются выводы об этнонациональной специфичности любых видов поведения, включая поведение правовое, о тотальной детерминированности последнего поверхностными структурами языка, пресловутыми «культурными кодами» и т. п.
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Нет особой необходимости подробно доказывать научную несостоятельность такого рода суждений, ранее уже продемонстрированную в специальной литературе12. Язык (причем как естественные языки, так и все иные семиотические системы, включая право) является не столько «домом бытия», как полагал М. Хайдеггер13, сколько картой, более или менее адекватно отображающей территорию человеческого мышления, в частности мышления правового. Но карта, согласно известному утверждению А. Кожибски, еще не есть сама территория14, в связи с чем для юриста возникает необходимость раскрытия сложных взаимодействий, корреляций и взаимозависимостей правовых знаков и юридического мышления, отражающихся в правовом поведении индивидов. Иными словами, речь идет об одной из важнейших проблем постклассической философии права, проблеме соотношения всеобщего и особенного в конструировании правовой реальности.
Закономерности, а также механизмы эволюции права в синхронном и диахронном аспектах рассматривают В. В. Денисенко и И. И. Осветимская. Трудно не согласиться с содержащимся в их работах выводом, согласно которому изменения в праве чаще всего обусловлены не собственно юридическими, но и общими социокультурными факторами, а потому анализ этих изменений требует глубокого комплексного анализа с привлечением методологии различных научных дисциплин. Моделирование правовых явлений как один из способов их познания рассмотрен в статье молодого ученого Д. Г. Тринитки, причем особый интерес вызывают семиотические аспекты научных моделей, находящиеся в центре внимания автора.
Впрочем, более детальное рассмотрение онтологического и эпистемологического смыслов моделирующей функции правового познания в свете выводов постклассической теории права позволило бы автору прийти к выводу о том, что познание не просто моделирует феномены правовой реальности, но и конституирует, создает последнюю. Полагаем, что данная функция юридической науки получит свое углубленное раскрытие в новых статьях Д. Г. Тринитки. На стыке юридической и политологической наук выполнена работа А. Н. Медушевского, посвященная исследованию российского правового и политического строя, а также перспектив его трансформации в будущем. Можно без преувеличения утверждать, что выводы автора, сформулированные в данной статье, способны стимулировать как юридическое, так и политологическое знание.
Естественно, что ряд публикаций развивают и традиционную проблематику отраслевых юридических наук. Так, профессор Л. Б. Смирнов исследует проблемы пенитенциарной коррупции в Российской Федерации, в поле зрения К. В. Мордвинова и У. А. Удавихиной находятся практики противодействия киберпреступности, а в статье М. А. Хребтовой и Я. В. Тарасовой на примере Приморского края рассмотрена практика освобождения от уголовного наказания с назначением судебного штрафа. Есть, однако, основания предполагать, что в процессе развития постклассической юриспруденции принцип междисциплинарности будет приобретать все большее значение не только для общетеоретических, но и для чисто прикладных исследований, что, без сомнения, качественно преобразует все уровни правового познания.
Главный редактор
Николай Викторович Разуваев