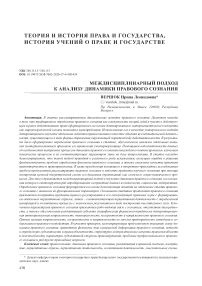Междисциплинарный подход к анализу динамики правового сознания
Автор: Вершок И. Л.
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 4 т.17, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются динамические аспекты правового сознания. Делаются выводы о том, что традиционное определение правового сознания как совокупности эмоций, идей и чувств о действующем и ранее действовавшем праве сформировалось на основе доминировавшего материалистического концепта как мировоззренческой основы познания в юриспруденции. Использование его в качестве универсального метода детерминировало изучение отдельных аспектов правосознания в качестве объекта исследовательской деятельности, существующего в виде формы отражения окружающей (юридической) действительности. В результате было сформировано определение правового сознания в статике, обусловленное анализом отдельных внешних (материализованных) признаков его проявления (экстериоризации). Имеющаяся недостаточность данных об особенностях внутренних процессов динамики правового сознания вынужденно компенсировалась изучением психических процессов и их соответствующих параметров лишь на базе интроспекции. В статье наглядно демонстрируется, что такой подход приводит к различного рода искажениям, влекущим ошибки в решении фундаментальных проблем определения феномена правового сознания, а также снижение качества практики правотворчества и правоприменения. В целях преодоления возникшего в теоретико-прикладных исследованиях пробела предлагается рассматривать правовое сознание в качестве предмета научного познания при помощи построения цельной теоретической схемы его динамики (протекания) как сложного социо-психического процесса. Для этого применяется междисциплинарный подход к изучению динамики правового сознания, на основании которого синтезируется ряд апробированных на практике данных из психологии, социологии, кибернетики. Определение правового сознания формируется на основе декомпозиции понятия на отдельные стадии правового сознания с анализом их функциональных параметров. Основными стадиями протекания правового сознания признаются восприятие предмета правого регулирования и его опосредующих правовых норм с формированием отдельных перцептивных образов, затем - соответствующая перцептивная деятельность с определенной центрацией и когнитивные процессы с возможным результатом в виде построения мыслительных схем. Ключевыми параметрами правового сознания признаются родо-видовая связь с сознанием, отсутствие дискретности, а также обусловленная реадаптацией субъекта специфическая формально-юридически детерминированная интенциональная направленность, темпоральность, когерентность и напряженность правового сознания. Причем целевая направленность, когерентность и напряженность во многом предопределены методами и содержанием правового воздействия. В качестве примеров, иллюстрирующих предложенную вниманию схему динамики правового сознания, приводятся феномены так называемой деформации правового сознания, подходы к определению субъектности и правосубъектности, структурно-содержательные аспекты правоспособности и дееспособности, параметры субъективной стороны правонарушения, проблемы профессионального правового сознания и ряд других прикладных вопросов.
Правосознание, динамика правового сознания, реадаптация в правовой системе, восприятие, перцептивные образы, перцептивная деятельность, когнитивная деятельность, мыслительные схемы
Короткий адрес: https://sciup.org/143172767
IDR: 143172767 | УДК: 340.114.5+340.115 | DOI: 10.19073/2658-7602-2020-17-4-438-454
Текст научной статьи Междисциплинарный подход к анализу динамики правового сознания
Проблемы правосознания, традиционно относящиеся к предмету теории права, в настоящее время признаются в качестве одного из основных ее разделов [23, с. 364]. Сложившееся в парадигме классической науки, их комплексное изучение до сих пор в основном сводится к выявлению понятийных, структурных, видовых (преимущественно с акцентом на профессиональное) и функциональных параметров правосознания [7, с. 308–311; 9, с. 73–77; 21, с. 5–19; 29, с. 101–103; 33, с. 23–26]. Осуществляется также философская характеристика различных аспектов правосознания в контексте вопросов онтологии [6, с. 80, 199; 23, с. 365–374] и аксиологии [23, с. 375] права. Встречаются общетеоретические исследования правосознания в рамках определенных правовых систем и правовой реальности [26, с. 28–42], а также права как социального института [14, с. 77–100] либо в качестве элемента правового воздействия [20, с. 82–84].
Такого рода исследования правосознания проводятся преимущественно в контексте философского дискурса, на мировоззренческом уровне и базируются на метафизических суждениях, вплоть до того, что делаются попытки обосновать использование философско-правовой дисциплины как средства «актуализации подъема правосознания» [27, с. 114–117]. В ином случае изучение проблем правосознания направлено на анализ признаков и форм его выражения в конкретных пространственно-временных границах [18, с. 11–16], исследуются источники и способы формирования у индивида правовых установок, формы их экстериоризации в правовом поведении [13, с. 116–121; 34, с. 84–92], а также различные его эмоциональные показатели, например «страх перед преступностью» [37, с. 89–101], в рамках прикладных исследований. Однако как самостоятельный феномен, «нечто особенное и самодостаточное, правосознание в рамках предмета фундаментальных отраслей знания не слишком интересует исследователей и всегда рассматривается в том или ином отношении к чему-либо» [26, с. 9, 13].
Введение в понятийно-категориальный оборот юридической науки термина «правосознание» без соответствующих исследований его природы как самодостаточного социо-психического явления, осуществляемых на междисциплинарном уровне, приводит к постепенной утрате корреляционной связи между устоявшимися выводами юриспруденции о нем как идеальной форме отражения отдельных элементов социально-правовой реальности и новыми достижениями наук психологического и социального профиля относительно динамики, трансформации и выражения сознания.
В результате термин «правосознание» до сих пор понимается преимущественно не в качестве сложного социально-психического феномена, а как некая абстрактная конструкция, используемая при построении определенной философской мировоззренческой системы, либо как вспомогательный инструмент, дающий возможность изучать иные феномены государственно-политического, социально-правового или юридического значения, например, легитимность государственных институтов, эффективность законов или правовых норм, качество правоприменения, факторы динамики преступности и т. д.
Указанные проблемы в изучении правосознания во многом обусловлены отсутствием у исследователей четкого разграничения объекта и предмета научного познания. Так, клас- сическое определение правосознания как совокупности взглядов, эмоций и чувств апеллирует только к тем сведениям, которые мы можем эмпирически получить через анализ конечного этапа правосознания, связанного с его выражением в правовом поведении субъекта-носителя.
Восполнение пробелов, образованных в результате такого анализа, вынужденно компенсируется методом интроспекции, через познание собственных психических процессов. Имеет место анализ правосознания в качестве объекта науки, проявляющегося сугубо в объективной стороне правового поведения. Это дает некоторые сведения, но вызывает затруднение при их систематизации в целях определения сущностных признаков правового сознания как юридического феномена, которое преодолевается собственным, субъективным представлением исследователя о динамике правосознания. В частности, отражая данную тенденцию, правоприменительная практика при квалификации правонарушения нацелена на максимально объективное изучение фактической основы дела, но при этом правоприменитель вынужден реконструировать недостающие элементы схемы состава правонарушения на основе собственного усмотрения: стереотипов, опыта, индивидуальных особенностей восприятия и знания жизни. В итоге его решение о субъективной стороне правонарушения основывается на выводах «о том, что думает судья о том, как думал субъект правонарушения», с использованием наиболее психологически убедительных, по мнению правоприменителя, нарративов. Нет гарантий, что в процессе усмотрения им не будет непроизвольно осуществлена когнитивная ошибка, например, вызванная каузальной интуицией (склонность неуместно применять каузальные рассуждения в случаях, где следует оценивать ситуацию с точки зрения статистики) [11, с. 105], либо преувеличенная эмоциональная когерентность (эффект ореола увеличивает силу первых впечатлений, иногда до такой степени, что остальная информация полностью нивелируется) [11, с. 112, 113], а также ретроспективное искажение (вызывает порицание за хорошее, благоразумное решение, но принесшее плохой результат) [11, с. 267].
В свою очередь, изучение правосознания как предмета науки предполагает необходимость построения цельной теоретической схемы протекания (динамики) правового сознания, что в настоящее время в полной мере еще не осуществлено, в нарушение правила о том, что законы объекта и конструкции предмета науки должны находиться, с методологической точки зрения, в отношениях не тождества, а эвристического соответствия [28, с. 141]. В связи с этим возникает проблема неполноты и узости (туннелирован-ности) имеющихся знаний об эмпирически воспринимаемых данных о признаках правосознания и отсутствия их полной корреляции с ранее сконструированными философско-правовыми и теоретико-правовыми определениями понятия, структуры и видов правосознания.
В частности, в литературе широко распространена теоретическая схема деформации правосознания в виде правового нигилизма, эмпирические данные о которой обычно редуцируются к отрицанию права либо признанию права в качестве фикции [32, с. 216] с определенной степенью интенсивности, категоричности [19, с. 18] и выражению в массовом нарушении моральных и правовых норм [19, c. 19]. В результате в юридических научных работах появляется критика «косности, отсталости, невоспитанности основной массы» населения [19, с. 20], у которого «диагностирован» так называемый нигилизм. Необходимо отметить, что указанный термин, заимствованный из западных философских концепций и позже экспортированный в философскую и художественную литературу России второй половины XIX в. в несколько ином значении, в современной юридической литературе стал инструментом стигматизации массового отклоняющегося от правовых норм поведения как деформации общественного правосознания.
Чем более массовым и серьезным является отклонение, тем больше оснований у ученых для критики его носителей (рядовых граждан) и предложений по их «воспитанию» без уяснения причин происходящего. Однако вместо того, чтобы формировать мета-научные конструкции и художественные аллегории, выражающие субъективное мнение автора, следует дать теоретико-прикладное объяснение причин и способов преодоления происходящего.
В этих целях целесообразно рассматривать правовой нигилизм в ином значении, давая ему объяснение в рамках предмета общетеоретической правовой науки, а не констатируя его проявления лишь в качестве объекта научного знания. Это становится возможным путем построения теоретической схемы динамики правового сознания. В ней будет иметь место этап воспри- ятия правовых норм как не соответствующих социальным и (или) индивидуальным потребностям и ожиданиям, последующая перцептивная деятельность, проявляющаяся в децентрации восприятия (от права – к другим, более целесообразным и востребованным в конкретной ситуации нормативным регуляторам), что может вызывать в дальнейшем построение мыслительных образов правового поведения вопреки правовым нормам, вплоть до их нарушения.
На каждом этапе правосознания теоретическая схема, отображающая динамику правового нигилизма, отражает его причины. На стадии восприятия информации нигилизм сводится к содержательному расхождению норм официального и неофициального права – население ждет или косвенно участвует в формировании одной правовой новации (правообразование), а законодатель предлагает нечто иное. На последующих стадиях динамики сознания нигилизм связан с бóльшим регулятивным потенциалом иных, по сравнению с правом, социальных норм и актов регулирования – происходит децентра-ция внимания субъекта в пользу корпоративных норм, традиций или вообще актов стихийного воздействия, что учеными признается как «индифферентное отношение к праву» [19, с. 21].
Дальнейшая стадийность протекания правосознания при правовом нигилизме заключается в расхождении моделей правовой действительности у законодателя и у субъекта права, вплоть до противоположных. В связи с этим преодоление правового нигилизма возможно различными путями.
Во-первых, при помощи установления принципиально новых процедур и содержания правового регулирования, связанных с изучением и санкционированием уже сложившихся в обществе стереотипов поведения, а не навязыванием иных. В связи с этим отметим, что Н. И. Мату-зов справедливо признает, что правовой нигилизм связан с нарушением правовых норм наряду с моральными [19, с. 19], а А. В. Поляков видит в нем теорию и практику отрицания права как «позитивно-ценностного явления», связанные с такими деструктивными явлениями, как насилие и произвол власти [23, с. 414-415]).
Во-вторых, преодоление правового нигилизма возможно иным путем – при помощи трансформации правового сознания и соответствующих правовых установок как психического состояния готовности субъекта к правовой активности в определенной правовой ситуации и сформировавшегося представления о том, как нужно действовать [23, с. 422–423]. Однако при этом необходимо учитывать, что включение определенного варианта правового поведения в контекст правовой культуры общества происходит на фоне социокультурного и исторического контекста, который является трансцендентным критерием правовой селекции [30, с. 51].
В литературе общетеоретического правового профиля понятие правосознания, раскрываемое на уровне категорий, дает возможность в рассуждениях о нем допускать высокий уровень абстрагирования, но при этом вызывает сложность практической верификации сделанных выводов. Кроме того, обычно происходит еще и неоправданное расширение смыслового поля категории «правосознание», охватывающей отдельные проявления иных феноменов юридической и социально-правовой природы, относящиеся к общественному мнению, легитимности, правовой культуре, правовому менталитету.
В рамках настоящей работы осуществляется попытка перейти от категориального уровня изучения правосознания к его исследованию путем выявления важнейших понятийных признаков, связанных с реальным процессом протекания сознания на различных стадиях – восприятия, осмысления и выражения информации об окружающей действительности. Понятийные характеристики правового сознания, выделенные по его стадиям, будут отражать его родо-видовую связь с явлением общего сознания, сводящуюся к ряду некоторых сходных с ним, но в тоже время и некоторых особенных признаков.
В отличие от широко распространенного слова «правосознание», название изучаемого в данной работе психического процесса по восприятию и осмыслению информации о правовой действительности будет состоять из словосочетания «правовое сознание», отражающего взаимосвязь общего сознания с его видом – правовым сознанием и четко определяющего через прилагательное «правовое» объект, на который направлено внимание субъекта – право в его различных проявлениях. В связи с этим примечательно появляющееся в литературе лексическое разграничение (иногда – противопоставление) правового сознания и сознания права [18, с. 11–16].
При использовании сложного слова «правосознание» первая его часть – корень «прав» – предполагает неоднозначную смысловую интер- претацию термина, происходящую от различной комбинации слова «сознание» с однокоренными словами «править», «правило», «право». В настоящей работе будет изучаться правовое сознание как сложный юридический, психический и социальный феномен, имеющий тесную родо-видовую связь с общим сознанием, а не категория «правосознание», характеризующаяся абстрактными параметрами мета-научного обоснования идей политико-идеологического и философского направления.
Встречающиеся в литературе утверждения о том, что дистанцирование правосознания от общественного сознания носит искусственный характер [16, с. 170] и что общественное сознание качественно не отличается от правового сознания, методологически обусловлены материалистическим подходом к соотношению бытия и сознания. Они объясняются изучением как сознания, так и правосознания в качестве форм идеального отражения объективной реальности. Результатом такого отражения признается физически (в пространстве и времени) выделенная некоторая совокупность, чаще – хаотично вычленяемое некоторое множество идей, эмоций, чувств либо определенные акты признания, уважения, поддержки права и критика действующего законодательства. Однако названные формы, имеющие материальное проявление и фиксацию в поведении, достаточно сложно подвергнуть комплексному изучению, например, проводя их деление на правовой и неправовой виды, что и вызывает отождествление общественного сознания с правовым сознанием и даже правом. В связи с этим справедливо констатируется недостаточная эффективность исследований правосознания, проявляющихся в избыточной философской составляющей правовых исследований (на базе материалистического концепта) или в некритическом применении теоретикоправового аппарата в работах философского характера [26, с. 3].
Изучение правового сознания в ином ракурсе (как социо-психического процесса) позволяет обнаружить существенные его отличия от общего сознания и, главное, выявить его значение для «процесса воспроизведения правовой реальности» [31, с. 13] и «конструирования» права [23, с. 364].
Необходимость пересмотра умозрительно обосновываемого философией материалистического подхода к исследованию сознания и правового сознания также вызван эмпирически и логически подтверждаемыми в современной физике и иных естественно-научных дисциплинах доказательствами невозможности порождения сознания материальной субстанцией человеческого мозга, какой бы сложной она ни была. В результате, опираясь на факты естественных наук, можно согласиться лишь с признанием «ассоциированности» сознания с организмом его носителя (материей) [12, с. 175–177]. Психическое и телесное признаются взаимодополняющими и постоянно перетекающими друг в друга качествами субъекта, возможность изучения которых состоит именно в признании стадийности протекания правового сознания.
Материалистическое понимание правосознания, идентичное по сути с определением сознания, привело к косвенному признанию их в качестве статичного, проявляющегося в качестве «слепка», «отпечатка» или «формы отражения», «законсервированных» в виде отдельных каким-либо образом зафиксированных наблюдателем взглядов, эмоций или чувств. Так, единый и цельный поток сознания и его разновидность – правовое сознание – искусственно расчленяются на дискретные эмоциональные и (или) рациональные компоненты (представления и чувства; образы и символы), многие из которых post factum невозможно воспроизвести, вычленить, уловить, и наличие которых, соответственно, определяется лишь интроспективно, по собственному усмотрению. В результате в качестве основных признаков правового сознания формируется хаотичное, не сводящееся к целостному множеству перечисление некоторых, отдельно взятых форм его выражения.
Указанные недостатки, имеющиеся на фундаментальном уровне теоретических исследований, связанных с вопросами правосознания, могут негативно сказываться и на практике. Например, при определении субъективной стороны правонарушения как психического отношения субъекта к содеянному происходит ее абстрагированное отождествление с виной либо в дополнение вины перечисляются иные признаки, например, мотив и цель. Иногда имеет место определение субъективной стороны правонарушения в качестве самого отражения в сознании субъекта (или такой возможности) объективных признаков содеянного [5, с. 28–29].
Однако, во-первых, все вышеназванные параметры субъективной стороны правонарушения не могут в полной мере подлежать всесторонней и объективной оценке правоприменителем вследствие невозможности воспроизведения и уяснения всего объема имевшихся у субъекта в момент совершения правонарушения эмоций, мотивов и чувств. Взятые за основу оценки субъективной стороны отдельные рациональные или эмоциональные компоненты правового сознания могут существенно искажать картину его реального состояния, что впоследствии повлечет ошибки квалификации деяния по его субъективной стороне.
Во-вторых, вина в психологии, в отличие от юриспруденции, рассматривается как парная категория стыда и подразумевает специфические эмоции морального, этического и религиозного порядка. Вина, являющаяся особенным эмоциональным проявлением правового сознания, в юриспруденции неоправданно признается компонентом субъективной стороны правонарушения в отрыве от стыда. В связи с этим В. П. Малаховым справедливо обращалось внимание на необходимость учитывать не только психическое (внутреннее) отношение субъекта к содеянному, но и его социальную вменяемость как «состояние гражданственности и нравственности (человечности)» [17, с. 127].
В-третьих, проблематичным представляется объединение в рамках субъективной стороны правонарушения вины вместе с мотивом и целью. Вина представляет собой психическое явление из области чувств, следующее за совершением проступка, и имеет вектор последовательной направленности сознания из настоящего в прошлое, это реакция субъекта на уже произошедшее с ним. Мотив и цель, являясь продуктами интеллектуальной деятельности из области рационального, обладают иной направленностью – происходит сознательный процесс построения модели поведения (правонарушения) и его результатов из настоящего в будущее. Вина, мотив и цель – качественно неоднородные и разнонаправленные во времени компоненты, и их объединение в единый критерий квалификации правонарушения на практике может приводить к упрощению (и вероятному искажению) реальной картины произошедшего. С теоретических позиций включение их в субъективную сторону правонарушения связано с нарушением правил классификации, выражающихся в требовании соблюдения единства оснований на протяжении всей классификации и однородности выделяемых компонентов классификации.
Приведенный, даже абсолютно поверхностный, анализ субъективной стороны правонарушения уже наглядно демонстрирует, что ее конструкция требует пересмотра. Поэтому оптимальным представляется вместо внешней оценки вины как статичного внутреннего состояния субъекта, дополняемой механизмом интроспекции, осуществлять формализованную процедуру вменения, основанную на максимально возможном комплексном изучении динамики правового сознания субъекта на отдельных стадиях восприятия, отражения, осмысления и выражения информации. Таким образом, осуществляемый в отношении правового сознания «способ анализа, в ходе которого факты помещаются в рамки целостного “поля”, является единственно приемлемым методом психологического исследования, тогда как сведение их к атомизи-рованным элементам всегда искажает единство реальной действительности» [22, с. 116].
Таким образом, характеристика правового сознания не должна осуществляться путем его механической редукции к отдельным внешним проявлениям эмоций и чувств. Полагаем целесообразным рассматривать правовое сознание с точки зрения его стадийного протекания во времени, начиная с восприятия информации из внешней среды и заканчивая мыслительной работой по анализу полученных сведений, построению на этой основе вербальных схем о реальном и потенциальном состоянии окружающей действительности. Такой подход основывается на теоретически обоснованных и практически апробированных психологией, социологией, кибернетикой выводах, адаптируемых к специфике социально-правовой действительности. Ведь «раскрытие содержания любого понятия может быть полным, только если его интерпретация осуществлена в двух направлениях: теоретическом и эмпирическом... Эмпирическая интерпретация понятия предполагает его опера-ционализацию» [4, с. 26], которая и предлагается для наиболее полного изучения правового сознания в качестве самостоятельного предмета юридической науки.
Метод настоящего исследования правового сознания состоит в подтверждаемом эмпирическими сведениями о сознании изучении правового сознания в качестве процесса, результат которого, доступный наблюдению, свидетельствует о наличии или отсутствии явления, выраженного в понятии. «Операционализация – поиск эм- пирических индикаторов явления, отраженного в понятии, предполагает декомпозицию понятия, разложение его на составляющие, которые могут быть соотнесены с эмпирически данными объектами» [4, с. 26]. Такая декомпозиция возможна путем определения правового сознания через выявление и изучение стадий его протекания. Причем специфическая природа таких стадий заключается в том, что они никогда не существуют в дискретном состоянии [22, с. 93].
Необходимо учитывать, что этапы правового сознания могут протекать в усеченной форме, занимая доли секунды и практически не подвергаясь интроспективной рефлексии со стороны самого носителя правового сознания, а могут быть значительно растянуты во времени, что дает основания делать выводы о различной напряженности (интенсивности) и темпоральности правового сознания в зависимости от различных внешних по отношению к его носителю и внутренних факторов. Для сравнения темпоральных особенностей протекания приведем процесс правового сознания покупателя при ежедневных сделках розничной купли-продажи в быту, оказания услуг перевозки пассажиру общественного транспорта или процесс правового сознания субъекта коррупционного правонарушения.
Правовое сознание в динамической интерпретации проявляется как обладающий субъектностью (самостью) «динамический процесс, для которого характерны постоянные колебания (то он простой, то сложный, то где-то посередине)» [8, с. 22–23; 12, с. 24]. Сам факт наличия сознания является признаком субъектности его носителя. При этом в различных направлениях науки, в определенной степени осуществляющих изучение природы сознания – от нейро-биологии до социо-психологии, прямо или опосредованно признается наличие различных этапов сознания, которые в обобщенном виде попытаемся свести к восприятию информации из окружающей среды, ее дальнейшей обработке (осмыслению) и последующему выражению в вербальных схемах и поведении.
Следует признать, что попытки выделения отдельных элементов правового сознания, соответствующих его процессуальной природе и этапам протекания, уже встречаются в отдельных исследованиях. В частности, Р. С. Байниязовым при рассмотрении психологических аспектов правосознания подчеркивается, что индивид не только воспринимает право, но и ощущает, чувствует, эмоционально реагирует на юридически нормы [2, с. 16–21], а А. В. Поляковым указывается, что интерпретирующий субъект осуществляет селекцию поступающей информации, задействуя в этом процессе не только свой разум, эмоции или подсознательные стереотипы поведения, но и духовный мир в целом, что позволяет иметь отношение к анализируемой информации, корректируемое внешним социальным окружением [24, с. 28]. Соглашаясь с данной и подобными установками, стремящимися максимально полно определить динамическую природу правового сознания, представляется целесообразным дальнейшее изучение этапов правового сознания на основе уже выявленных и эмпирически верифицированных психологией данных по отношению к сознанию, но со спецификой взаимодействия субъекта с компонентами правовой системы в процессе его реадаптации.
Сознание обладает свойством интенциональности, заключающимся в том, что оно протекает в условиях постоянной адаптации субъекта к изменениям окружающей среды. Что касается правового сознания, то его функциональное предназначение заключается еще и в том, что оно является «невидимой субстанцией», которая созидает индивида в качестве субъекта права «как в плане правовой самоидентификации, так и в плане социально-правовой самоидентификации, интегрируя этого субъекта права в множество иных субъектов правового взаимодействия» [20, с. 82] в целях включения каждого индивида в социальное целое [31, с. 243]. При этом личностное («человеческое») начало у субъекта права играет важнейшую роль в формировании и воспроизводстве правовой реальности, которая, в свою очередь, социализирует (рекрутирует) новых субъектов права [30, с. 50].
Правовое сознание первоначально сводится к внутреннему самоопределению как основе дальнейшего внешнего признания его носителя в качестве субъекта права, что дает возможность адаптироваться к условиям социально-правовой действительности благодаря физиологическим и социально-психическим способностям его взаимодействия с другими субъектами.
Если протекание общего сознания сугубо индивидуально по своей протяженности, напряженности и интенциональности, то правовое сознание под воздействием юридических инструментов приобретает свойство когерентности, однонаправленной интенциональности в пространственно-временных рамках конкретного правоотношения, за счет чего и обеспечивается формально-юридическое равенство. Однако при этом каждый субъект права все равно обладает «многомерностью, связанной с множеством правовых идентичностей, существующих в современном социуме, контекстуальностью (зависимостью от исторической эпохи и культуры-цивилизации) и изменчивостью» [30, с. 50].
Субъект-носитель правового сознания обладает энергией, направляемой на объекты окружающей среды. В отличие от дискретных изменений, происходящих с энергией в материальном мире, у человека, не обладающего психическими и физическими недостатками, процесс сознания протекает непрерывно – не может быть у субъекта сознания так называемой прерывистой или «частичной субъектности» [12, с. 60], она или есть или ее нет. В связи с этим факт искажения или прерывистость восприятия и дальнейших стадий правового сознания фактически становятся основанием для трансформации статуса его носителя из субъекта в объект права, что преодолевается институтом законного представительства.
Правоспособность, наличие которой определяется гражданским законодательством и связывается с моментами рождения и смерти человека, фактически не зависит от его субъектности, а также от интенциональности его сознания. Однако дееспособность как потенциальная способность, умение и готовность человека к существованию в правовом пространстве заключается в «его субъектности, находящейся в тесной связи с правосознанием» [20, с. 82].
В гражданском праве дееспособность формально отождествляется со способностью своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, и предполагает наличие ряда условий. Юридически такие условия связаны с наступлением определенного возраста, однако фактически дееспособность зависит от наличия социально-психических параметров субъектности конкретного человека, предопределяющих непрерывность, интенциональность его правового сознания и выражающихся в возможности построения им мысленных схем будущего правового поведения и его последствий. Характерно, что А. В. Поляковым такие свойства правового сознания также признаются, но анализируются несколько в ином качестве – как процессы теоретического, абстрактного характера, связанные с интеллектуальной направленностью на виртуальный результат. Их изучение осуществляется в виде так называемых «когнитивно-правовых отношений», т. е. мысленно представляемых правовых отношений, знаний о реальных или мнимых правах и обязанностях, о должном поведении и его ожидании [23, с. 732].
Процедура признания неполной дееспособности, ее ограничения или лишения и правоотношения представительства направлены на компенсацию недостатков протекания процесса правового сознания, осуществляемую другим субъектом-носителем правосознания. Указанные правовые механизмы направлены на юридическое восполнение физиологических, когнитивных, психических пороков субъектности носителя правового сознания, влекущих смещение, нарушение интенциональности или вообще вызывающих дискретность сознания, что усложняет или делает невозможной его адаптацию к условиям окружающей среды.
Таким образом, возникновение и прекращение правоспособности обусловлены физиологическими условиями начала и окончания жизни, не находятся в корреляционной связи с проявлениями субъектности и являются инструментом унификации всех в качестве субъектов права для обеспечения формального равенства и общеобязательности правовых норм. В свою очередь дееспособность динамична, обусловлена субъектностью ее носителей, а также изменчивостью природных, социальных и психических факторов, обеспечивает индивидуализацию носителей правового сознания в качестве субъектов и участников определенных правоотношений. Полнота и объем дееспособности, ее динамика индивидуализируются интенциональностью, напряженностью и когерентностью протекания правового сознания в правоотношениях и предопределяют специфику правового статуса субъекта права.
Рассмотренная «самость» или субъектность как признак правового сознания опытно подтверждается методом интроспекции. При его помощи появляется возможность утверждать, что мы никогда не признаем того, что информацию считывают наши органы чувств, будучи уверенными, что делаем это сами, как субъекты, а наши глаза, уши или пальцы являются лишь инструментами [12, с. 188]. Субъектность проявляется тогда, когда индивид испытывает потребность в адаптационной деятельности, т. е. если происходит нарушение равновесия между средой и организмом. Его действие направлено на то, чтобы вновь установить это равновесие, или, точнее, на то, чтобы «реадаптировать организм» [22, c. 62].
При этом теоретическая конструкция правовой субъектности («правосубъектности») рассматривается как юридическая предпосылка «потенциальной возможности существования человека в правовом пространстве» [20, с. 82] и в современной литературе применяется повсеместно – не только в частно-правовой, но и в публично-правовой сфере.
Однако определение правосубъектности путем синтеза юридических понятий право- и дееспособности либо с использованием унифицированной категории праводееспособности [23, с. 734] представляется не в полной мере неоправданным. Попытка механически объединить статичную и универсальную правоспособность иметь права и обязанности, носителем которой является каждый живой человек, с динамичной, персонифицирующей дееспособностью субъекта права приобретать и реализовывать права и обязанности в правоотношениях, приводит к формированию оторванных от практики конструкций и схем. Если еще И. А. Ильин признал правосознание неотъемлемым условием вменяемости субъекта права, а сознание – признаком субъектности в праве, так как право говорит на языке сознания и обращается к сознательным существам [10, с. 24–25], то в контексте современной науки возникает проблема неаргументированного включения в конструкцию правосубъектности элемента правоспособности, наступление которой не связано с вменяемостью или сознательностью и коррелирует лишь с физиологическим параметрами жизни и смерти организма. Ведь субъектность сознательно (интенционально) направлена на предмет, а правоспособность не предполагает такой направленности.
Более того, учитывая индивидуальную природу процесса сознания и правового сознания, необходимо отметить спорность признания правосубъектности у различных коллективных образований: юридических лиц [3, с. 266–273], государственных органов [35, с. 423–432], государства [1, с. 15–17] и отдельных форм его территориальной организации (субъектов федерации) [25, с. 137–143]. Формально-юридическое либо теоретическое признание различных коллективных образований в качестве носителей правосубъектности противоречит тому, что в реальности их участники выступают совершенно самостоятельными субъектами, обособленными носителями сознания, способными к различным проявлениям интенциональности и адаптационной деятельности, что делает невозможным достижение полной когерентности правового сознания всех участников таких коллективных образований. Представляется более уместным признавать за последними не правосубъектность, а правовой статус, содержание и динамика которого предопределяется целями их образования и деятельности.
Динамика процесса сознания связана с ощущаемой субъектом потребностью в действии, воспринимаемой благодаря его органам чувств – своеобразным инструментам, направляющим процесс сознания в определенном направлении (интенциональностью) и обеспечивающим восприятие информации из окружающей среды, ее отражение при помощи ощущений, обладающих активным (рефлекторным) характером [15, с. 165]. Интенциональность обусловливает динамику и дифференциацию правового сознания.
В процессе восприятия органами чувств происходит получение субъектом отрывочной информации об окружающей действительности, когда полученные «сенсорные образы дают субъективные ощущения» [12, с. 131]. Субъективные ощущения, формируемые в процессе сознания, связаны в том числе и с проявлениями права: человек «пребывает в праве», в коммуникации с другими он способен быть самим собой и осуществлять себя. Права и обязанности с самого начала присутствуют в его экзистенции, а не привносятся в уже реализованное бытие. В любой общности партнеров у ее членов уже существуют обязанности и права. Основное право индивида – возможность рассматриваться в качестве личности, в своей «самости» [24, с. 33].
В случае необходимости, когда адаптационная деятельность по результатам субъективного восприятия собственных прав и обязанностей не приносит результата в виде установления хрупкого равновесия с окружающей средой, интенциональность сознания может смещаться от «экзистенциально-правового» в терминологии А. В. Полякова (естественно-правового) к юридическому (нормативному) регулированию, и на полученные ранее сенсорные образы происходит наложение воспринятых впоследствии схем логической структуры правовых норм.
В таком случае можно утверждать, что если сознание направлено на определенный объект окружающей действительности, то правовое сознание интенционально направлено еще и на опосредующую его норму права. Общее сознание трансформируется в правовое в условиях, когда перцептивная деятельность в его процессе направлена на предмет правового регулирования и опосредующую его норму права.
При этом интенциональность правового сознания может быть совершенно различной: либо направляться на собственно-юридические последствия, либо предполагать более широкие, социально-правовые результаты. Например, молодой человек обращается к правовым нормам о порядке поступления в высшее учебное заведение, так как не хочет служить в армии и надеется на отсрочку службы для студентов либо реализует цель получать высшее образование по интересной ему специальности. В первом случае интенциональность правового сознания связана с юридическими последствиями отсрочки, а во втором – с социальным результатом профессионального и карьерного роста. Другой пример: должностное лицо готовит ответ на обращение граждан с соблюдением формы и сроков, но указывает на неподведомственность ему поднятой в обращении проблемы в соответствии с действующим законодательством или, решив проблему по существу путем запросов в другие учреждения, дает содержательный ответ по решению проблемы. В первом случае процесс профессионального правового сознания направлен на восприятие правовых норм с целью повлечь юридические последствия, отказав в обращении вследствие неподведомственности. Во втором случае интенциональность правового сознания связана с решением вопроса по существу, квалифицированной помощью гражданам и соответствующими социально-правовыми результатами.
Следует подчеркнуть, что интенциональность сознания смещается на узко-догматические юридические источники как конечную инстанцию в случаях, когда механизмы неюридического, естественно-правового регулирования оказываются неэффективными – не упорядочивают общественные отношения. Люди дают деньги взаймы, самостоятельно договариваются добровольно компенсировать причиненные убытки или решают сожительствовать, часто не обращая внимание на то, что такие отношения по своей природе являются правовыми и допуская их неюридическое, естественно-правовое упорядочение. В юридической литературе даже рассматривается идея первичной профилактики правонарушений «в форме расширения прав и возможностей сообщества через ассоциации соседей» [37, с. 89–101], а также обосновывается первичная (этическая) легитимность норм уголовного права, после которой только следует вторичная их легитимность, устанавливающая юридическую силу уголовного закона [38, с. 67–76].
Однако при возникновении юридических конфликтов и невозможности их самостоятельно решить они направляют интенциональность своего сознания на дополнительный предмет – соответствующие правовые нормы, опосредующие приведенные в качестве примера общественные отношения о порядке взыскания денег или компенсации убытков в принудительном порядке, регистрации брака и обеспечения имущественных прав супругов, заключения брачного договора.
При этом необходимо учитывать, что восприятие человека – это не субъективное отражение окружающего мира (как утверждают сторонники материалистического подхода), а только сенсорные способности индивида ощущать, сформированные в результате его биологической эволюции. Помимо формирования сенсорных образов, человек, в отличие от животных, способен к такому виду психического процесса, как мысли в словах (вербальные схемы). Вербальное мышление дано ему для компенсации отсутствующих биологических механизмов адаптации к окружающей среде, благодаря мышлению он не привязан к той обстановке, в которой находится. Человек обладает способностью вырабатывать родовые понятия и мыслить абстрактно от конкретной ситуации, владеет техникой моделирования [12, с. 109–112], построения виртуальных схем будущего состояния среды и его поведения при реадаптации. Правовое сознание наиболее тесно, по сравнению с общим сознанием, связано с построением вербальных схем будущего общественного отношения и роли носителя правового сознания в нем. Например, такой схемы: «Если я беру деньги взаймы, то с меня как с должника их могут взыскать через суд».
Однако структуры языка в форме уже существующих, ранее экстериоризированных вербальных схем, организуют человеческое восприятие и в значительной мере влияют на структуры сознания [31, с. 37] и правового сознания. Так, специфику протекания правового сознания могут предопределять разные методы правового регулирования, выражаемые в том числе при помощи лингвистических особенностей построения соответствующих правил. В частности, использование глаголов «должен» и «обязан», разных по лексическому значению, существенно предопределяет метод правового регулирования и может по-разному воздействовать на правовое сознание субъекта.
Долженствование предполагает не только юридические, но и моральные требования («я должен вернуть долг любой ценой») и обладает большим диспозитивным потенциалом, в то время как обязанность представляет собой строго формализованную юридическую конструкцию с императивным определением ее границ («я обязан в течение недели выплатить всю сумму долга»).
Индивидуальность процессов восприятия у субъектов права может существенно предопределить интенциональность, напряженность и темпоральность их правового сознания. Особенности формирования сенсорных образов прямо или опосредованно влияют на динамику правоотношений, что должно получать соответствующую оценку при их квалификации. Например, при анализе такого субъективного параметра правового отношения, как порок воли при сделке, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой, влекущий по гражданскому праву признание сделки недействительной, необходимо уделять значительное внимание сенсорным способностям человека и социо-психическим параметрам его восприятия в конкретном времени и месте путем попыток реконструировать те перцептивные образы, которые возникали (или не возникали) у него перед заключением сделки, и соответствующим вербальным схемам ее реализации.
Это будет способствовать наиболее точному определению причин и объемов несовпадения воли и волеизъявления, на самом деле проявляющихся не в виде так называемого «порока воли», а в нарушении перцептивных процессов или появления фактов дискретности правового сознания.
С учетом индивидуальности и даже уникальности сенсорных образов в процессе восприятия и сложности дать им в каждом случае всестороннюю объективную оценку, требуется тщательное изучение предпосылок, обусловивших особенности восприятия в условиях обмана, насилия, угрозы, психического расстройства и других проявлений специфического психо-эмоционального и физического состояния субъекта. Оно сводится к анализу «качества, интенсивности, продолжительности и пространственной локализации, абсолютного и относительного порога» таких ощущений [15, с. 173].
Например, юридические признаки уменьшенной вменяемости в уголовном праве как условия наступления уголовной ответственности определяются в уголовном законодательстве через отсылку к медицинскому критерию наличия психического расстройства (заболевания), психопатологий, которые достаточно часто «в нынешнем виде невозможно надежно определить или диагностировать» [36, с. 46–60]. Однако используемая в нем оценочная формулировка «не в полной мере» представляет собой абстрактную теоретическую схему (конструкцию), сложно применяемую на практике, что должно корректироваться большей юридической формализацией физиологических, социальных и психических факторов, ограничивающих «полноту меры» вменяемости как возможности осознавать значение своих действий и руководить ими.
Данная конкретизация требуется для уточнения, связана ли невозможность осознавать значение своих действий и руководить ими с вызванными психическим заболеванием проблемами восприятия, формирования перцептивного образа либо с дальнейшими процессами правового сознания по построению вербальных схем будущего правового поведения и его последствий. Уяснение данного обстоятельства, по нашему мнению, может существенно повлиять на дальнейшую квалификацию субъективной стороны правонарушения на основе признания уменьшенной вменяемости.
Перцептивная деятельность субъекта как активная интерпретация чувственных данных основана на формировании субъективных ощущений. Однако пространство перцептивной деятельности не является однородным и комплексным, а в каждое мгновение имеет определенный центр. В психологии эмпирически доказано, что зона центрации (фокуса внимания) обладает свойством пространственного расширения, тогда как периферия этой центральной зоны оказывается сжатой тем сильнее, чем больше она удалена от центра.
В результате в процессе правового сознания может происходить центрация восприятия непосредственно на правовые нормы, а может – на другие социальные регуляторы или соответствующие им общественные отношения. Чем шире область центрации на правовые нормы, тем более сжатой является периферия, т. е. область восприятия вне правового регулирования. Например, для профессионального правового сознания зона центрации субъекта на правовое регулирование может оказаться настолько широкой, что периферийные зоны восприятия (подпадающие под действие морали, религии, политических и экономических законов и даже законов природы) очень существенно сужаются и искажаются, что проявляется в так называемых явлениях деформации правосознания, профессионального выгорания и других отклонениях. Так, центрация восприятия на область догматики права часто проявляется в попытках юристов решать любые социальные проблемы и даже негативные природные явления техногенного характера исключительно при помощи правового регулирования в соответствии с такой логикой: «появляется проблема – принимаем новый закон для ее решения», что нередко сводится к принятию «мертвых» правовых норм и не оправдывает себя на практике.
Кроме того, относительно специфики перцептивной и дальнейшей мыслительной деятельности в психологии выявлена следующая закономерность [15, с. 205–206], получающая свое отражение и в социально-правовой сфере. Способ обработки (распознавания) информации, воспринятой по пути «сверху-вниз», обусловливает сильное влияние контекста на наше восприятие предметов и управляется знаниями и ожиданиями человека. В свою очередь восприятие путем обработки информации «снизу-вверх» представляет собой процесс, управляемый только входными сигналами [15, с. 205–206], т. е. различное восприятие содержания правовых норм, направленных, например, на регулирование хозяйственных отношений, значительно обусловлено действием рассмотренного закона перцептивной деятельности.
В частности, если субъект хозяйствования, индивидуальный предприниматель, имманентно обладающий правовым сознанием, открывает налоговый кодекс или обращается за официальной консультацией в налоговый орган, непосредственно воспринимая правила, касающиеся его прав и обязанностей в налоговой сфере, имеет место восприятие «сверху-вниз». Оно обуслов-ленно знаниями и ожиданиями предпринимателя о том, кто занимается принятием и применением правовых норм в данной сфере, и подвергается сильному влиянию формализованного контекста на восприятие нормы по логике «если-то-иначе», а также юридической силы нормативного правового акта и места в иерархии аппарата государства консультирующего должностного лица.
Когда тот же субъект узнает о содержании норм права от таких же, как он субъектов, обменивающихся собственным или чужим опытом в части применения норм налогового законодательства, происходит восприятие «снизу-вверх». Этот процесс управляется только входными сигналами и вместо структурированных и формализованных знаний о правовом регулировании в конкретной отрасли состоит в получении отрывочной информации, но при этом характеризуется большей мобильностью и отражает фактическое содержание реальных правоотношений, практики правоприменения.
Дальнейшая интенциональная направленность правового сознания обусловлена его предметом и фоном. Предметом правового сознания могут быть непосредственно правовые нормы, а сопутствующие явления социально-правовой действительности – фоном. Может иметь место иная ситуация, когда правовые нормы являются фоном, а соответствующие им общественные отношения – предметом. Необходимо учитывать, что соотношение восприятия предмета и его фона обладает динамикой и зависит от степени знакомства воспринимающего субъекта с данным предметом из прошлого опыта, а также от целостности воспринимаемого объекта. В частности, большее усилие (напряженность сознания) требуется для выделения отдельных частей объекта внимания, а также значительно сложнее воспринимать его часть как особый объект. На основании указанной черты восприятия выделяется целостный (синтетический) и детализирующий (аналитический) его типы, что можно обнаружить и применительно к правовому сознанию.
Первый тип восприятия предполагает максимальную центрацию на смысле, минуя подроб- ности и детали происходящего. Во втором типе предмет отходит на второй план, приоритетным является фон. Это две крайности, которые не встречаются в реальности, а в теории характеризуются абстрактными схемами правового нигилизма и правового идеализма. При этом человек без нарушений процесса сознания не может выводить на первый план абсолютно полностью право и также не может полностью его отрицать. В свою очередь субъекты правотворческой деятельности могут на разных его этапах подключать разные типы восприятия. При определении концепции законопроекта, его предмета и метода правового регулирования с необходимостью должен подключаться синтетический тип восприятия. Однако детализирующий тип восприятия наиболее необходим при формулировке самого текста нормативного правового акта, решении его структурно-содержательных вопросов.
Процессы правового сознания могут различаться по типу восприятия не только в публично-правовой, но и в частно-правовой сфере, например, в случае, если истец подает иск в суд о расторжении брака с действительной целью прекратить брачно-семейные отношения (центрация восприятия на предмет иска) либо для того, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений в межличностном конфликте, повлиять на своего супруга при решении проблем участия в воспитании детей либо вопросов материального обеспечения (центрация восприятия на фон). Выявление реального предмета центрации и его фона в процессе правового сознания участников данного спора может способствовать более быстрой и всесторонней квалификации объекта правоотношения и выбору соответствующей тактики поведения в процессе.
Последующий этап перцептивной деятельности осуществляется посредством мыслительной работы субъекта, дающей ему возможность «вводить возвраты и отклонения; он настигает объект за пределами перцептивного поля и привычных путей, расширяя, таким образом, начальные расстояния в пространстве и времени, но всегда остается в поле собственного действия субъекта» [22, с. 205].
Не соглашаясь с описанием правосознания через признак его формальной определенности, вытекающей из философского концепта материализма, обратим внимание на то, что у В. П. Малахова справедливо говорится о логике правового сознания [16, с. 69], предполагающей наличие возможности субъекта права формировать мыслительные схемы за пределами его перцептивного поля. Действительно, ощущение и восприятие не дают субъекту достаточной информации об окружающем мире, делая его беспомощным перед действительностью, особенно в сравнении с биологическими способами приспособления животных. Однако благодаря логическому мышлению в процессе сознания и формальнологической когнитивной деятельности в правовом сознании у него появляется возможность более или менее успешной адаптации к изменениям окружающего мира (реадаптации) и правовой системы. При этом следует учитывать, что человеческая рациональность всегда является ограниченной.
Если по законам биологии функция рождает орган, то отдельные части мозга человека развиваются именно благодаря функции физиологической, психической и социальной адаптации человека к стремительным изменениям окружающей природной, социальной и техногенной среды. Чем больше потребности в такой адаптации, тем лучше развита его физиология мышления, логическая деятельность.
Дальнейшее протекание правового сознания связано с работой репрезентативного и прогрессом интуитивного мышления, при котором субъект приобретает «способность обращаться к отсутствующим объектам и благодаря этому может вырабатывать отношение к невидимой реальности – прошедшей и отчасти будущей. Но такой интеллект оказывается действенным пока еще только по отношению к более или менее статичным фигурам» [22, с. 205], при этом на данном этапе сознание приобретает не только свойство отражения бытия, но и творчески-сози-дательную установку на его совершенствование. В частности, оно способствует субъекту готовящегося правонарушения в статике видеть свои цели, которые обусловлены напряженностью и темпоральностью протекания его мыслительной деятельности (долго думал о последствиях, обсуждал их либо совершил противоправное деяние, рефлекторно реагируя на стимул). Однако при этом правовое сознание еще не задействуется для формирования отношения субъекта правонарушения к собственной виновности.
Как уже отмечалось, чувство виновности, находясь в тесной психо-эмоциональной связи с чувством стыда и предполагая не только сенсорно-моторное отражение, но и на его основе формирование собственного отношения к невидимой реальности, обладает качественно иными параметрами. Такое формирование отношения осуществляется в виде «ассимиляции окружающей среды в “схемах” субъекта» [22, с. 84]. В примере о виновности правонарушителя происходит наложение ментальных схем правонарушителя на реальную картину произошедшего и при их несовпадении возникают различные чувства, возможно проявляющиеся в виде вины или стыда.
Причем такая мыслительная деятельность представляет собой происходящий автономно психический процесс, протекающий «параллельно нашему сознанию», когда «нам открываются только готовые продукты» [12, с. 115–116], т. е. мысли, которые выступают в качестве информационных моделей действительности [12, с. 118]. Уже в таких мыслях осуществляется действие, но оно специфично тем, что мысли еще обратимы [22, с. 78]. И если их протекание сложно рефлексируются самим субъектом, то насколько проблематично их выявить внешнему наблюдателю, например, субъекту правоприменительной деятельности при решении вопросов деятельностного раскаяния.
Последующие формы бытия правового сознания фиксируются в различных формах его экс-териоризации. Так, его выражение происходит преимущественно в форме правового поведения, которое чаще всего обладает признаками социального действия.
Полученные выводы по определению динамики правового сознания станут отправной точкой решения в дальнейшем вопросов о его реальной, а не умозрительно сконструированной структуре, функциях и видах, имеющих своеобразное проявление в конституционно-правовой, гражданско-правовой, эколого-правовой и иных отраслях правовой действительности.
Указанные направления исследований получат соответствующее реальному процессу правового сознания описание его динамики, что даст возможность уяснения особенностей протекания правового сознания в реальных правоотношениях вместо констатации отдельных эмоций и чувств субъекта в конкретной пространственновременной точке. Полученные выводы будут способствовать выработке направлений деятельности, обусловливающей не абстрактно заявляемые меры по повышению уровня правосознания, а изучение его трансформации для дальнейшего обеспечения стабильного состояния правовой системы в целом и отдельных ее элементов.
Список литературы Междисциплинарный подход к анализу динамики правового сознания
- Арзуманян М. Н. Понятие и содержание правосубъектности государства // Вопросы экономики и права. 2009. № 12. С. 15-17.
- Байниязов Р. С. Правосознание: психологические аспекты // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1998. № 3 (222). С. 16-21.
- Борисов В. В. Современные проблемы правосубъектности юридических лиц по законодательству РФ // Terra Economicus. 2010. Т. 8, № 2-2. С. 266-273.
- Варламова Н. В. Предметно-методологическое единство и дифференциация теоретического знания о праве // Ежегодник либертарно-юридической теории / под ред. В. А. Четвернина. М.: Изд. дом ГУ - ВШЭ, 2007. Вып. 1. C. 12-45.
- Васильев В. В. Теоретические проблемы субъективной стороны состава правонарушений // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Сер.: Юридические науки. 2011. № 1 (4). С. 28-32.
- Гаджиев Г. А. Онтология права (критическое исследование юридического концепта действительности). М.: Норма: Инфра-М, 2014. 320 с.
- Горбунова М. В., Лукманова Р. С. Правовой дискурс и правовая идеология как компоненты правосознания // Проблемы и тенденции развития социокультурного пространства России: история и современность: материалы VI междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Т. И. Рябовой. Брянск: Изд-во Брянск. гос. инженер.-технол. ун-та, 2019. С. 308-311.
- Дамасио А. Так начинается "Я". Мозг и возникновение сознания / пер. с англ. И. Ющенко. М.: Карьера Пресс, 2018. 384 с.
- Жукова Н. С. Правовая идеология как неотъемлемый структурный элемент правосознания // Философия права. 2011. № 2 (45). С. 73-77.
- Ильин И. А. О сущности правосознания. М.: Рарогъ, 1993. 235 с.
- Канеман Д. Думай медленно… решай быстро / пер. с англ. А. Андреева, Ю. Делигиной, Н. Парфеновой. М.: АСТ, 2019. 653 с.
- Карманов К. Логика идеального. Введение в проблематику. СПб.: Коло: Летний сад, 2001. 256 с.
- Касьянов В., Нечипуренко В. Социология права. Ростов н/Д: Феникс, 2001. 480 с.
- Луков В. А. Лекция 24. Правовая культура и правосознание // Социология права: курс лекций: в 2 т. / отв. ред. М. Н. Марченко. М.: Проспект, 2015. Т. 2. С. 77-99.
- Маклаков А. Г. Общая психология. СПб.: Питер, 2003. 592 с.
- Малахов В. П. Концепция философии права. М.: Юнити-Дана, 2007. 751 с.
- Малахов В. П. Мифы современной общеправовой теории. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2013. 151 с.
- Малахов В. П. Правовое сознание и сознание права: единство противоположностей // История государства и права. 2020. № 10. С. 11-16.
- Матузов Н. И. Правовой нигилизм как образ жизни // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2012. № 4 (87). С. 17- 33.
- Палеха Р. Р. Правосознание как элемент содержания правового воздействия // Право и государство: теория и практика. 2020. № 4 (184). С. 82-84.
- Панкратова М. Е., Рашева Н. Ю., Ивашко Г. В. Правосознание, его структура, виды, уровни и функции // Современное право. 2015. № 1. С. 5-19.
- Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология. М.: Просвещение, 1969. 659 с.
- Поляков А. В. Общая теория права. СПб.: Юрид. центр "Пресс", 2003. 845 с.
- Поляков А. В. Постклассическое правоведение и идея коммуникации // Известия высших учебных заведений. Право ведение. 2006. № 2 (265). С. 26-43.
- Прошин В. А. Международная правосубъектность членов федерации: проблемы теории и анализ мировой практики // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер.: Право. 2010. Т. 6, № 1. С. 137-143.
- Роль философии права в формировании правосознания молодежи / С. Г. Беляков, Д. В. Гребенюк, А. Н. Корсаков, А. В. Костюк, С. С. Шуренкова // Научный вестник государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт". 2019. № 1. С. 114-117.
- Слободнюк С. Л. Правовая реальность и кризис правосознания: историко-теоретический аспект. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012. 360 с.
- Тарасов Н. Н. Методологические проблемы юридической науки. Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2001. 264 с.
- Толкачев К. Б. Правовая идеология в структуре профессионального правосознания государственных служащих Российской Федерации // Государство и право. 2007. № 11. С. 101-103.
- Честнов И. Л. Конструирование социальной и правовой реальности: к формированию диалогической онтологии права // Платон. 2012. № 1. С. 45-51.
- Честнов И. Л. Постклассическая теория права. СПб.: Алеф-Пресс, 2012. 650 с.
- Четвернин В. А., Яковлев А. В. Институциональная теория и юридический либертаризм // Ежегодник либертарноюридической теории / под ред. В. А. Четвернина. М.: Изд. дом ГУ - ВШЭ, 2007. Вып. 1. С. 5-8.
- Чикалов О. В. Профессиональное правосознание: понятие, уровни, структурные элементы // Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 1. С. 23-26.
- Шереги Ф. Э. Социология права: прикладные исследования. СПб.: Алетейя, 2002. 447 с.
- Эмих В. В. Правосубъектность и компетенция государственных органов // Научный ежегодник института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2009. Вып. 9. С. 423-432.
- Gonzalez-Tapia M. I., Obsuth I., Heeds R. A New Legal Treatment for Psychopaths? Perplexities for Legal Thinkers // International Journal of Law and Psychiatry. 2017. Vol. 54. P. 46-60.
- DOI: 10.1016/j.ijlp.2017.04.004
- Matsukawa A., Tatsuki Sh. Crime Prevention Through Community Empowerment: An Empirical Study of Social Capital in Kyoto, Japan // International Journal of Law, Crime and Justice. 2018. Vol. 54. P. 89-101.
- DOI: 10.1016/j.ijlcj.2018.03.007
- Szczucki K. Ethical Legitimacy of Criminal Law // International Journal of Law, Crime and Justice. 2018. Vol. 53. P. 67-76.
- DOI: 10.1016/j.ijlcj.2018.03.002