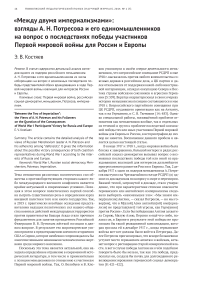«Между двумя империализмами»: взгляды А. Н. Потресова и его единомышленников на вопрос о последствиях победы участников Первой мировой войны для России и Европы
Автор: Костяев Эдуард Валентинович
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1 (7), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье содержится детальный анализ взглядов одного из лидеров российского меньшевизма А.Н. Потресова и его единомышленников из числа «оборонцев» на вопрос о возможных последствиях победы представителей обеих враждовавших в ходе Первой мировой войны коалиций для интересов России и Европы.
Первая мировая война, российская социал-демократия, меньшевизм, потресов, империализм
Короткий адрес: https://sciup.org/14219365
IDR: 14219365
Текст научной статьи «Между двумя империализмами»: взгляды А. Н. Потресова и его единомышленников на вопрос о последствиях победы участников Первой мировой войны для России и Европы
Тема отношения различных политических сил общества к противоборствующим сторонам какого-либо международного военного конфликта является крайне актуальной в современных условиях. Позиция в этом вопросе политических партий способна сыграть существенную роль в определении курса внешней политики того или иного государства. Так, в 2013 г. практически всеобщее осуждение представителями ведущих политических сил нашего общества военных действий международных террористов против правительства Башара Асада стало прочным фундаментом для занятия президентом Российской Федерации В. В. Путиным жёсткой позиции в данном вопросе. В результате его миротворческие усилия привели к предотвращению военного вторжения США в Сирию, которое неибежно сопровождалось бы многочисленными невинными человеческими жертвами среди мирного населения.
Поскольку эта тема является актуальной, она находила определённое отражение в современной исторической литературе, в том числе и применительно к позиции меньшевиков по отношению к участникам Первой мировой войны. Так, О. Волобуев и В. Кло- ков упомянули в своём очерке деятельности меньшевиков, что всероссийское совещание РСДРП в мае 1918 г. высказалось против любого вмешательства союзных держав в российские дела, а ЦК партии и далее отказывался от поддержки какой-либо иностранной интервенции, осуждал оккупацию Севера и Востока страны войсками союзников и агрессию Германии [3: 359]. Вкратце охарактеризовал в своих очерках истории меньшевизма позицию состоявшегося в мае 1918 г. Всероссийского партийного совещания при ЦК РСДРП, осудившего ориентацию как на Антанту, так и на Германию, и С. В. Тютюкин [14: 483]. Однако специальной работы, посвящённой проблеме отношения как меньшевиков вообще, так и отдельных их течений и групп к проблеме последствий возможной победы тех или иных участников Первой мировой войны для Европы и России, в историографии до сих пор не имеется. Восполнение данного пробела и является целью настоящей статьи.
В конце 1917 и 1918 г., когда мировая война была близка к завершению, большой интерес в рядах российской социал-демократии вызывал вопрос о возможных последствиях победы той или иной из враждовавших коалиций для интересов дальнейшего прогрессивного развития России и Европы. Так, 2 декабря 1917 г. один из лидеров меньшевизма А. Потре-сов выступил на Чрезвычайном съезде РСДРП (о) одним из докладчиков по вопросу о мире и перемирии. Важной темой, затронутой в докладе, стало утверждение, что при характеристике степени опасности германского или английского империализма следовало выбирать «наименьшее зло»: «Мы знаем им-пер[иализм] Англии, — сказал Потресов, — но мы го-вор[им], что в М[алой] Азии английск[ий] имп[ериа-лизм] не представ[ляет] той угрозы, как Герм[ания] против России». Если бы победившая Англия захватила Сирию, Малую Азию, Персию и ещё что-либо, полагал он, в Европе в результате этой победы не произошло бы такой реакционной консолидации, которая грозила ей в декабре 1917 г., когда германские войска вот-вот должны были войти в Петроград. Далее Потресов прогнозировал, что вскоре большевики уступят место германским агентам и войскам, встанет вопрос о реставрации старой монархической власти. А вот в случае победы Англии ни о чём подобном говорить было бы нельзя, так как эта победа, предполагал он, создала бы почву для долгожданного революционизирования германской социал-демократии [8: 421–422].
В более последовательном изложении мысли По-тресова на эту тему находим в его статье «Речи Церетели», увидевшей свет в газете «День» от 17 декабря 1917 г. «Первородным грехом» и источником всех последовавших злоключений лидера «революционных оборонцев» меньшевика Ираклия Церетели Александр Николаевич считал то, что «своё великолепное здание» внешней политики революционной демократии он строил на «фундаменте ложной оценки» международного положения Европы. Заключалась она, по мнению Потресова, в приверженности Церетели «общеизвестной схеме империалистического состязания, согласно которой обе стороны хуже, Англия и Франция рисуются не меньшей опасностью для международного развития, чем центральные державы...». Согласно данной концепции, в империалистическом состязании принимала участие и Россия: «Её константинопольские вожделения берутся всерьёз, но зато, — отмечалось в статье, — не берётся всерьёз другое: что Россия на самом краю превращения её из самостоятельного организма в безвольную колонию для германского капитала, и что победа Германии угрожает всей Европе таким укреплением реакции и таким разгромом международно-демократического движения, перед которым бледнеют какие бы то ни было „пре-ступления“ англо-французского империализма...». Картина этого реального положения вещей не существовала для Церетели, ибо на них были «одеты очки той модной доктрины, которая не позволяет в „единой реакционной массе“ международного империалистического хищничества делать различия и выбирать, в соответствии с духом испытанной социал-демократической практики, то меньшее зло, опираясь на которое можно избегнуть зла большего» [13: 273].
Анализируя эту испытанную десятилетиями социал-демократическую практику выбора «меньшего зла», Потресов для придания большей убедительности точке зрения о необходимости для социалистов поддерживать в войнах ту сторону, победа которой была бы «наименьшим злом» и в наибольшей степени отражала интересы дальнейшего мирового развития, призвал в мае 1918 г. на свою сторону авторитет Маркса. Он напомнил читателям, как в 1848 г. Маркс призывал к тому, чтобы во имя европейского прогресса и успеха революции была начата война против царской России, являвшейся тогда для него оплотом европейской реакции и символом заключённого на Венском конгрессе 1815 г. «Священного союза». Взять на себя инициативу войны против России значило, с его тогдашней точки зрения, оказать «огромную услугу поступательному ходу европейской цивилизации». Остался верен своему отношению к царской России он и тогда, когда через несколько лет разгорелась Крымская война, тем более, что в 1849 г. «...Россия императора Николая I оправдала его ожидания и своим вмешательством в судьбу поднявшейся против Габсбургов Венгрии подтвердила данную ей Марксом оценку и заслужила диплом европейского жандарма». Этой ненавистью к царской России отчасти определилось и его отношение к войне 1859 г., когда Наполеон III, преследуя свои специ- фические цели, вмешался в борьбу Италии за её независимость с Австрией: «Из-за спины императора французов, — писал Потресов, — Марксу казалось выглядывает фигура русского канцлера Горчакова и, отправляясь от общей оценки международного положения вещей, Маркс стал на сторону Австрии, с которой должна была, по его мнению, солидаризироваться Германия, чтобы парализовать комбинацию второго Бонапарта и монарха России» [12: 14].
По ходу франко-прусской войны 1870–1871 гг. первоначальное желание Маркса достижения победы Пруссии над французским бонапартизмом после Седана сменилось на противоположное желание, чтобы «республиканская Франция смогла устоять перед натиском Германии Мольтке и Бисмарка». По мнению Потресова, для Маркса война всегда была лишь поводом «подсчитать те плюсы и минусы, которые имеются у каждой из воюющих стран, чтобы в конце концов вывести баланс — с точки зрения интересов общего развития — прогресса, революции». Поэтому его отношение к военным конфликтам никогда не являлось «ни нигилистически безразличным, ни тем универсально-отрицательным, которое сводится к признанию всех воюющих единиц одинаково скверными...». Маркс в глазах Потресова был «слишком великий политик, чтобы не понимать, что эта, якобы ультра-революционная, точка зрения не имеет ничего общего с интересами европейской или мировой революции...»: «У революционера, социалиста и демократа Маркса, — говорилось в статье, — была... всегда своя отчётливая „ориентация“, провозглашающая не только борьбу пролетариата отдельных стран против их соответствующих правительств, но и специальная задача международной борьбы, тесно связанная с тем, что на международной арене часто фигурируют такие национально-государственные формации, которые являются помехой, тормозом, врагом для освободительного движения всех стран, тем наибольшим злом, против которого необходимо ополчаться в интересах революции» [12: 14–15].
И именно потому, был убеждён Потресов, что Маркс всегда «ориентировался», в условиях войны 1914–1918 гг. он не смог бы «прозевать ту величайшую опасность, которая надвинулась на мировое развитие в виде германского современного империализма», и не смог бы «баловать себя пустяковыми фразами об одном сплошном империализме всех европейских государств». Он не сомневался, что как в 1848 г. Маркс призывал к «священной войне» против Николая I, так и в годы мирового конфликта он «поднял бы клич... к коалиции всех сил против современного „жан-дарма“, против нынешней прусской Германии, возглавляющей мировую реакцию». Ещё в конце 1914 — начале 1915 г., напоминал Потресов, «мы советовали нашим единомышленникам, социал-демократам России, обратиться к старому Марксу, взять пример с него вместо того, чтобы... болтать об империализме английском и чуть ли не русском и во имя этого подготовлять бессознательно почву для торжества самого гнусного, самого опасного, самого вредного империализма германского...» [12: 15].
Разразившаяся мировая война, писал на ту же тему единомышленник Потресова меньшевик Д. Кольцов (Борис Гинзбург), «помутила наше зрение, заложила наши уши» и в наступившей «для нас ночной темноте мы перестали различать цвета, перестали придавать значение различию оттенков» до тех пор, пока «возращённый нашими усилиями империализм германский силой своего меча не заставил нас раскрыть глаза и заняться переоценкой идей, заповеданных нам из самых глубин швейцарских деревень (Циммервальд и Кинталь. — Э. К. )», а именно тезиса антиоборончески настроенных социалистов о равной ответственности воевавших сторон за развязывание мирового конфликта. Кольцов упрекал циммервальд-кинталь-цев, которые, принимая известные документы на своих конференциях, закрывали глаза на то, что Германия в результате войны «собирается отбросить Россию за Урал, отхватить себе всё Балтийское и Чёрное море, занять запад и юг России, открыть своим товарам и своим войскам прямой путь в Среднюю Азию и в Индию, стать владычицей всей средней и юго-восточной Европы» [6: 2–3].
Чем же по сравнению с этой «захватнической программой», задавался вопросом Кольцов, была программа другой «империалистической» коалиции? Наиболее одиозные её пункты, касавшиеся ликвидации европейских владений Турции, были устранены, полагал он, после падения самодержавия и отказа России от притязаний на Константинополь, а все остальные также отпали после того, как Англия и Франция примкнули к программе мира Вильсона. Но даже оставляя в стороне «тайные договоры», которым «только большевистская демагогия придала какое-то необычайно-преувеличенное значение», а также допуская, что требования Англии и Франции могли принять более грабительский характер, «мы не должны были, однако, забывать, — отмечалось в статье, — что победа германского империализма означает победу над Европой той политической комбинации... из прусских юнкеров и обслуживающих потребности милитаризма промышленников, тогда как победа Англии и Франции означала бы победу буржуазии, вынужденной делить свою власть с демократией». Вот на что, по мнению Кольцова, предпочитали неоправданно закрывать глаза в Циммервальде и Кинтале. Равно как и на то, что Россия не могла изолировать себя от своих союзников, не могла закончить мировую войну для одной себя, ибо в этой войне решался не тот или иной частный вопрос политического или экономического бытия, а вопрос о судьбах всей Европы — быть ли ей «под пятой немецкого шуцмана или обеспечить свободное развитие демократии» [6: 3].
Выступления Потресова и его сторонников за условный союз со странами Антанты в борьбе с германским империализмом были одной из причин произошедшего в августе 1918 г. раскола в партии. Сравнивая поведение Германии после подписания Брестского мира с одним из выступлений официальных представителей Англии, Франции и Соединённых Штатов на заседании Мурманского краевого Совета, Кольцов приходил в мае 1918 г. к выводу: «Там — продолжение грабежа и разбоя и непрекращающие-ся наглые ультиматумы; здесь — обещание добиться справедливого мира для всех союзников бывших и настоящих и торжественное заявление об отсутствии всяких захватных намерений в Сибири или где-либо в другом месте, несмотря на позорную измену „быв-ших“ союзников». О таком же «бережном отношении к России» говорили, с точки зрения Кольцова, и сведения с Дальнего Востока, где англичане высадили свой десант в 50 человек во Владивостоке «с исключительной целью смягчить впечатление японского десанта»: «Они верно учли то обстоятельство, — отмечалось в статье, — что на почве известного недоверия русских к японцам возможны совершенно нежелательные недоразумения, не оправдываемые обстановкой осложнения. И одновременной высадкой уничтожили возможность самостоятельных выступлений японцев» [6: 3].
Написанные далее слова статьи Кольцова свидетельствуют, что он был далёк от идеалистического приукрашивания ситуации в связи с описывавшимися событиями: «В интересах России и её бывших союзников было бы лучше, — писал он, — если бы этого десанта и вовсе не было, ибо он может со стороны германопослушных большевиков вызвать новую авантюру, последствия которой грозили бы нам новой страшной катастрофой». При этом неоспоримым в глазах автора оставался факт, что «нашим бывшим союзникам», по крайней мере, их активному ядру — Англии, Франции и Соединённым Штатам, была нужна сильная и независимая Россия: «Мало того, — указывал он, — им нужна демократическая Россия, ибо они понимают, что ни Романовы, ни Скоропадские не в состоянии оздоровить и возродить страну, в которой они прежде всего видят возможную соперницу в борьбе с Германией». И тут на сцену выступали «охотники до перегибания палки в другую сторону», считавшие, что раз Россия нужна союзникам, то она может спокойно выжидать часа наступления своего спасения, а до этого начать «деловое сотрудничество с германцами, чтобы как-нибудь пережить тяжёлое время»: «Как-нибудь!, — восклицал по этому поводу Кольцов. — Вопрос именно в том — как (курсив документа. — Э. К.). Если потрясения последних месяцев являются смягчающим вину обстоятельством для психологии битой собаки, психологии, всё более и более охватывающей широкие слои, то не мешает нам всё-таки помнить, что спасти нас могут только тогда, когда ещё останется что спасать, когда мы сами будем обнаруживать ещё признаки жизни, когда сознание надвигающегося на нас рабства заставит нас снова протянуть руку союзникам». «Борьба с германским империализмом и союз с теми, кто эту борьбу ведёт, — делался вывод в конце статьи, — такова должна быть наша ориентация» [6: 3].
Ещё более ярко выражена была «союзническая ориентация» меньшевиков-«оборонцев» в статье В. Левицкого (Цедербаума), посвящённой тому, какую тактику следовало проводить тогда партии в условиях, когда Россия стояла в начале лета 1918 г. перед перспективой превращения в «арену борьбы двух могу- щественных коалиций»: «Вооружённые выступления союзников на русской территории из более или менее гадательной возможности делаются реальным фактом. Заключение японо-китайского соглашения, подчиняющего все военные силы Китая японскому командованию, не может преследовать иной цели, — считал автор статьи, — кроме совместного занятия обеими восточными империями всего Дальнего Востока и части Сибири для противовеса германской оккупации. А выраженное на днях Советом Народных Комиссаров согласие на отдачу Финляндии западного Мурманского побережья в обмен на развалины форта Ино делает почти неизбежными военные операции англо-французов на севере России». К тому же «инициатива Японии в Сибири или Финляндии на Мурмане» обеспечивали, по мнению Левицкого, «неизбежность вмешательства Соед[инённых] Штатов в русско-германскую трагедию»: «И сколько бы жалких слёз и горьких упрёков по адресу союзного „импери-ализма“ мы не проливали, — писал он, — нам, видно, не миновать того, что за Россию кто-то будет решать её исторические судьбы, взимая с неё за это участие более или менее ростовщические проценты. Россия сейчас находится в положении холопа, чуб которого будет больно трещать от взаимной борьбы двух сильных панов» [7: 2].
Чью сторону следует держать в этой борьбе единомышленникам, высказывалось автором статьи вполне определённо: «Мы были и остаёмся сторонниками союзной „ориентации“, — подчёркивал Левицкий. — Мы не скрывали никогда и не боимся признать и теперь, что предпочитаем англо-французско-американскую коалицию австро-германской, ибо, при всём различии интересов демократии России и правящих кругов союзных стран, между ними существуют точки схождения и общность задач в борьбе с агрессивными стремлениями германского империализма» [7: 2].
Но эта «союзническая ориентация» отнюдь не означала для Потресова и Ко отказа от тезиса о необходимости проведения самостоятельной внешней политики России. Наоборот, она такую самостоятельность всегда предполагала: «И теперь, когда Россия лишилась независимости и колеблется между полной анархией и беспрекословным следованием указке из Берлина, когда различные общественные группы пытаются прислониться либо к Германии, либо к союзникам, в расчёте, что они спасут Россию от государственного развала, мы, — отмечал Левицкий, — вместо пустопорожнего вопроса об „ориентации“ в качестве центрального вопроса бытия или небытия России выдвигаем воссоздание национальной и государственной независимости России её собственными силами (курсив документа. — Э. К. ); мы не строим никаких надежд ни на Германию, ни на союзную коалицию, мы уповаем только на всенародный подъём национального сознания русского народа» [7: 2–3].
При этом Левицкий признавал, что состояние России было таким, при котором «мы обречены в данный момент сохранять „нейтралитет“ в борьбе обеих коалиций». Правда, этот «вынужденный обстоятельствами нейтралитет» и тогда не был абсолютен: «Мы не отка- зываемся, — замечал он, — от сопротивления Германии там, где имеем для этого силы, и, обратно, будем пытаться совместно с демократией союзных с нами стран парализовать вредные последствия возможности англо-японской оккупации». В любом случае, считал Левицкий, опасно было возводить такой вынужденный нейтралитет в ранг абсолютного принципа: «Опасно это потому, — разъяснял он, — что, как политики, мы обязаны строить свою тактику таким образом, чтобы возможно скорее выйти из этого нейтралитета, иначе говоря, чтобы превратить Россию из ничтожной величины в мировом концерте в реальную силу, имеющую удельный вес на весах мировой истории, в сторону, с которой считаются и которая, сообразно своим государственным и национальным интересам, заключает союзы и соглашения, ориентируясь не под чужим давлением, а по свободному выбору» [7: 3].
Создать из тогдашней России такую силу возможно было, на взгляд Левицкого, только одним путём — «объединением всех её национальных сил, объективно заинтересованных в независимости России и отпоре германскому империализму, коалицией всех действительно прогрессивных элементов России — как буржуазных, так и демократически-пролетарских в общем деле национального возрождения страны». Следовать при этом можно было примеру Италии: «Когда в 50-х гг. прошлого столетия, — делал исторический экскурс автор статьи, — Италия в тисках Австрийского господства начала борьбу за свою независимость, часть её буржуазии пыталась разрешить задачу её национального освобождения при помощи иностранной поддержки. В противовес этой иностранной „ориентации“ вожди итальянской демократии Мадзини и Гарибальди выкинули лозунг: „Italia fara da se“ — Италия справится собственными силами. И их агитационная и организационная деятельность содействовала оформлению того национального подъёма, который порождался иноземным гнётом и в конечном итоге привёл к освобождению от него Италии. Конечно, тонкая дипломатическая игра Кавура и поддержка Наполеона III помогли делу освобождения Италии, но они не имели бы успеха без творческого национального подъёма народных масс, под знаменем „Италия справится собственными си-лами“ проявивших волю к независимому национальному бытию» [7: 3].
В аналогичном положении, считал Левицкий, находилась в начале лета 1918 г. и Россия: «Не отказываясь, как не отказывались вожди итальянской демократии, от поддержки иностранцев, поскольку руководимое ими национальное движение становилось самостоятельной силой, главное своё внимание, — читаем мы в заключении статьи, — главные усилия мы положим на создание этой силы. Национальное движение, национальный подъём... может быть только движением всей нации (курсив документа. — Э. К.), а не одного класса и не одной только „демократии“, отгороженной частоколом от буржуазии, ибо освобождение нации от чужеземного гнёта может быть делом только самой нации в её совокупности, подобно тому, как освобождение рабочего класса может быть делом только самого рабочего класса» [7: 3].
Одним из главных вопрос об «ориентации» был и на состоявшемся 21–27 мая 1918 г. в Москве Всероссийском партийном совещании при ЦК РСДРП. Сторонники Потресова принимали в нём активное участие — Анатолий Шнеерсон был избран в президиум совещания, а сотрудничавший тогда в «оборонческом» журнале «Дело» Михаил Либер (Гольдман) выступил в качестве контрдокладчика по докладам Дана («О войне и мире»), Мартова («Государственный распад России») и Абрамовича («Советы и тактика социал-демократии»). Помимо этого, Либера избрали на совещании членом ЦК РСДРП. Различие в подходах к вопросу об «ориентации», краткая суть которых была определена в тезисах доклада Дана и содоклада Либера, было достаточно ощутимым. Фёдор Дан (Гурвич) отвергал, как «предательскую», «германскую ориентацию» «известных дворянских и буржуазных кругов, пытающихся осуществить, а на Украине и осуществивших, свои контрреволюционные замыслы при помощи германских штыков», так и «проявляющуюся в некоторых демократических кругах склонность к так наз[ываемой] „англо-французской“ ориентации, в смысле расчётов на помощь иностранного оружия для свержения большевистской власти и утверждения демократически-республиканской государственности». Только материальное и духовное возрождение России «внутренними силами демократии», только восстановление её способности «своими силами защищать свои границы» дало бы ей возможность, считал Дан, не опасаясь полной утраты самостоятельности, «заключать те или иные военные и политические союзы и соглашения с другими державами и коренным образом изменить условия, созданные Брестским договором». И только в таком случае «станет возможным восстановление связи с союзниками на условиях, приемлемых для демократии». До тех же пор «содействие союзных держав возрождению мощи России» было допустимо, по мнению Дана, только в виде помощи экономического и финансового характера, ибо любая попытка иностранными штыками разрешить вопросы её политического и экономического возрождения «на деле ведёт к окончательному закабалению России мировому империализму, делая её либо безвольным орудием в руках той или иной группы держав, либо общей, подлежащей разделу, добычей их...» [9: 448–449].
В отличие от Дана, считавшего, что заключению Россией союзов с другими державами, в том числе восстановлению ею связи с союзниками по Антанте, должно было предшествовать возрождение страны «внутренними силами демократии» и восстановление её способности самостоятельно защищать свои границы, «главный оратор меньшинства» Либер, решительно высказавшись в своём содокладе «О войне и мире» против «германской ориентации», грозившей «на долгие десятилетия закабалить Россию империалистической Германии», указал, что «в интересах восстановления независимости и единства России является целесообразной политика использования проти- воречий между двумя империалистическими коалициями»: «Исходя из этого, — пояснял он, — и принимая во внимание, что антигерманская коалиция заинтересована в противопоставлении германскому распространению на Восток сильной и самостоятельной России, социал-демократия признаёт возможность известного соглашения между Россией и этой коалицией в борьбе против империалистической Германии». Необходимой же предпосылкой безопасности такого соглашения с точки зрения внутреннего развития России являлся, по мнению Либера, «быстрый рост внутри её демократического движения, организующего страну и создающего основу для утверждения подлинного народовластия» [9: 455, 493].
Если в докладе Дана критические стрелы выпускались в сторону обеих враждовавших в ходе войны коалиций «империалистических государств», то львиная доля содоклада Либера была ориентирована на перечисление и критику грехов исключительно германского империализма. Связано это было с тем, что, по мнению содокладчика, в результате своих военных побед именно он стал в то время «наиболее грозной силой в сонме других мировых империализмов», получил «исключительно благоприятные условия для широкого наступления в мировом масштабе» и «избрал ближайшим предметом своих хищнических стремлений потерпевшую тяжёлое поражение Россию». Стремясь же навсегда устранить «восточную» опасность в виде самостоятельной и сильной России, экономически закабалить её и использовать богатства страны для восстановления своего истощённого войной хозяйства, империалистическая Германия, говорил Либер, «расчленяет прежнее Российское государство, содействуя созданию новых, зависимых от неё, государственных образований, остающейся же части страны предоставляет существовать в качестве полусвободной, находящейся в сфере германского влияния „Моско-вии“» [9: 453]. Следует признать, что Германия и её союзники действительно после заключения Брестского мира активно использовали богатства нашей страны для восстановления своего истощённого войной хозяйства. Так, министр иностранных дел Австро-Венгрии Оттокар Чернин признавался в своих мемуарах: «Мир с Украиной был заключён под давлением начинающегося голода. <...> По подсчёту весной и летом 1918 года к нам из Украины прибыли сорок две тысячи вагонов (курсив документа. — Э. К. ). Было невозможно получить это продовольствие откуда-нибудь ещё. Миллионы людей были спасены благодаря этому от голодной смерти. Пусть помнят об этом те, кто осуждает Брестский мир» [2: 132].
К сожалению, Либер тогда ещё не мог знать, что бывшие союзники по Антанте вели себя на территории России не менее хищнически и целью их вмешательства в её внутренние дела тоже было и территориальное расчленение страны, и захват её ресурсов. Так, в ночь на 6 сентября 1918 г. под руководством командующего войсками Верховного управления Северной области английского агента капитана Чаплина в Архангельске был совершён переворот. Временное правительство Северной области, созданное после пере- ворота по указке англичан, подчеркнуло в декларации 28 сентября, что возникло оно «при полном преобладании общесоюзнических задач над местными». В жизнь этот тезис проводился в буквальном смысле слова, фактически полным хозяином края был английский генерал Мейнард, командовавший всеми оккупационными силами союзников. Даже в расходовании бюджетных средств Временное правительство Северной области отчитывалось перед интервентами. С его ведома хищнически вывозились лес, пушнина, сырьё. В докладе управляющего его отделами финансов, торговли и промышленности было подсчитано, что менее чем за полтора года пребывания на Севере англичане вывезли 1 532 тыс. пудов льна, кудели, смолы, марганцевой руды, пеньки, пакли и других товаров на общую сумму свыше 2 млн., французы вывезли товаров более чем на 800 тыс. и американцы — более чем на 600 тыс. фунтов стерлингов. Один английский лесопромышленник Смит вывез из Архангельска леса на 200 тыс. фунтов стерлингов. Общий же материальный ущерб, нанесённый интервентами Архангельской губернии, составил более 1 млрд. золотых рублей [4: 62–64].
Мирясь с большевистской властью только до того момента, пока она способствовала разделу страны и пока полная анархия в России отвечала намерениям германского империализма, в определённый момент, считал Либер, он поставит своей задачей властно вмешаться во внутренние дела Советской республики и по своему усмотрению определить её политическое устройство, содействуя утверждению в ней наиболее реакционного режима, ибо подобный режим, сковывая общественную жизнь страны, будет убивать в ней все возможности самостоятельного существования, тем самым превращая её в экономического вассала Гогенцоллернов: «Переворот на Украине, — приводил он пример, — является более или менее точным прообразом того, что ожидает Великороссию, и с полнейшей ясностью показывает, что без действительной государственной независимости страны невозможно её свободное внутреннее, политическое и социальное самоопределение» [9: 453].
С другой стороны, расчленение России, полагал Ли-бер, лишало каждую из её частей экономических предпосылок самостоятельного существования и в особенно тягостное положение ставило именно Великороссию, оставшуюся без достаточного количества хлеба, без металлов и топлива для промышленности, без выходов к морю и с неисчислимыми долгами. При таких условиях «национальная задача завоевания элементарных условий независимого государственного существования и воссоединения разрозненных частей России», рассматривая как первый шаг в этом направлении заключение между ними таможенного союза и установление в них единства экономического и социального законодательства, полностью совпадала с основными классовыми задачами пролетариата: «Вместе с тем, — сразу добавлял Либер, — только при воссоздании единства и самостоятельности России могут быть созданы необходимые предпосылки для восстановления живых связей российского про- летариата с пролетариатом других стран для объединения международных социалистических сил в борьбе с империализмом». Полное обеспечение классовых интересов пролетариата при осуществлении объективно поставленной перед Россией национальной задачи и сама возможность утверждения действительной независимости страны мыслились содокладчиком только на пути демократического, шедшего снизу движения, сочетавшего борьбу за освобождение России с решительной борьбой против поднимавшей голову контрреволюции: «Вне этого пути, — указывал он, — перед Россией открывается перспектива политической и социальной реставрации, опирающейся на помещиков, реакционную часть буржуазии и „крепкие“ элементы крестьянства и поддерживаемой штыками германского империализма. Подобная реставрация грозит нанести тягчайший удар классовым интересам пролетариата, свести на нет все важнейшие завоевания революции и, сковывая освободительное движение демократии, превратить Россию (хотя бы и объединённую) на долгие годы и десятилетия в безвольное орудие империалистической Германии» [9: 453–454].
Поскольку Либер и его единомышленники составляли на Всероссийском партийном совещании незначительное меньшинство, к его тезисам совещание не прислушалось и в принятой им резолюции «Брестский мир и распад России» звучала формулировка Дана о том, что «заключение тех или иных военных соглашений с враждебными Германии государствами лишь в том случае не будет грозить России превращением в безвольное орудие той или другой группы держав, если ею будет достигнуто внутреннее возрождение силами самой демократии и восстановлена демократическая государственность» [9: 474].
Серьёзной критики на страницах социал-демократического «оборонческого» журнала «Дело» формулировке Дана было никак не избежать и перо, взятое с этой целью в руки одним из делегатов совещания Марком Амгинским (Камермахером), записало спустя несколько дней после его окончания, что в вопросе об «ориентации» Всероссийское партийное совещание сделало ошибку, провозгласив необходимость решительной борьбы «против всяких им-периализмов». «Империализм, конечно, вещь скверная, — указывал он в своей статье. — Но империализм империализму рознь. Даже наши „интернационали-сты“ не осмелятся утверждать, что наши бывшие союзники в отношении России имеют такие же агрессивные планы, как Германия. Соц[иал]-демократия, если она хочет быть партией действия, должна проводить различие между двумя воюющими коалициями и не имеет права отказываться от использования их борьбы в интересах рабочего класса. В тех условиях, в которых находится сейчас Россия, отказ от этого использования объективно означает ни что иное, как ту же немецкую ориентацию». Ибо «пока мы только протестуем и якобы охраняем чистоту наших принципов», пояснял Камермахер, «пока ожидаем, что демократическими силами будет достигнуто возрождение России и восстановлена военная мощь её, после чего, по мысли докладчиков (Дана и Мартова. — Э. К.), можно будет поставить и вопрос о военных соглашениях, пока произойдёт мировая революция, — немец возьмёт у нас всё, что только ему захочется». Доводы на этот счёт содокладчика Либера, тоже, кстати, по мнению автора статьи, «не сделавшего всех выводов», «ни к чему не привели» и в результате «интернационалистские заблуждения» на совещании восторжествовали [1: 10].
Описание преимуществ ориентации на «союзническую коалицию» по сравнению с сотрудничеством с «новым международным жандармом» в лице Германии продолжил в одной из своих статей меньше-вик-«оборонец» Павел Колокольников. При этом он вовсе не отрицал наличие «хищнических вожделений» среди участников «союзнической коалиции», имея в виду то, что Япония «давно косит глаза на Дальний Восток и уже протягивает к нему руки»: «Но эти хищнические вожделения, — пояснял Колокольников, — умеряются, во-первых, противоречиями экономических интересов среди самой коалиции, во-вторых, её более демократическим характером и, в-третьих — и самое главное — общностью очередной международной задачи : освобождение России из-под германского ига в очень большой степени обусловлено исходом борьбы союзников против захватнических стремлений германского империализма и наоборот». Именно эта общность задачи выгодно отличала в его глазах ориентацию на союзников, а не на австро-германскую коалицию: «Первая ориентация, — писал он, — ослабляет наложенную на Россию петлю; вторая, наоборот, закрепляет и затягивает её. Вот почему ориентация на союзников при известных условиях является выгодной, необходимой и даже неизбежной . Отказ от неё, во имя возможных будущих опасностей, в ней таящихся, фактически в данную минуту означает лишь усиление германской ориентации (везде в цитате курсив документа. — Э. К. )» [5: 5].
Санкционируя подписанием Брест-Литовско-го мирного договора «выбытие России из коалиции и этим отводя на союзников удар австрогерманских полчищ», российский пролетариат, по мнению Коло-кольникова, «совершал предательство и перед российской революцией, и перед международным социализмом». Классовые интересы и социалистический долг требовали, чтобы эта его ошибка была исправлена: «Пролетариат обязан добиваться того, — указывал он в другой статье, — чтобы Россия вновь вступила в ряды союзников и общими силами дала отпор хищникам германского империализма, общими силами разбила иго, наложенное прусским юнкерством и на восточную, и на западную демократию.
Во имя скорейшего и всеобщего мира, — призывал Колокольников, — дальнейшее участие в войне. Во имя международного социализма — активная организация национальной обороны. Во имя пролетарской солидарности — отпор тем отщепенцам международного рабочего класса, которые сознательно перешли в лагерь его врагов. И в этих целях, во имя дальнейшего развития классовой борьбы, временное классовое перемирие внутри страны». Так выгляде- ли тогда, на его взгляд, «те противоречия пролетарской тактики, которые возникают из основного противоречия современности — из противоречия между базисом и надстройкой, между развивающимся мировым хозяйством и национальным государством (курсив документа. — Э. К.), противоречия, которое окончательно будет разрешено лишь международной социалистической революцией» [10: 3].
По мнению являвшегося автором декларации «Группы борьбы за независимость и демократический строй России» Потресова, российская социал-демократия к своей «ориентации» должна была подходить так: «Она не может придерживаться „нейтрали-тета“ в борьбе между германским империализмом и англо-французско-американской коалицией, — гласил документ. — При данной международной обстановке первый является внешним врагом экономически независимой, единой и демократической России, вторая — её естественным союзником. При таких условиях демократическая Россия не имеет выбора. В своей борьбе против германско-большевистской „молчаливой“ коалиции она не может, не должна отказываться от экономической и военной помощи союзников. Однако в интересах защиты национальной независимости России от иностранных влияний непременным условием соглашения с „союзниками“ нужно выдвигать их полное невмешательство во внутреннюю политическую жизнь России и её государственное устройство как в период борьбы с советской властью, так и после её падения» [11: 272–273].
Реакция официального руководства РСДРП на эту декларацию, выдвигавшую «отвергнутые партией требования союза с англо-французским империализмом для совместного свержения большевистской власти», не заставила себя долго ждать. В специальной резолюции от 28 августа 1918 г. ЦК РСДРП, подтвердив «право членов партии свободно бороться за свои взгляды внутри партии», тем не менее констатировал, что все те её члены и организации, которые станут действовать в духе декларации «Группы борьбы за независимость и демократический строй России», поставят себя тем самым «вне партии» [9: 618–619]. В сентябре 1918 г., видимо, окончательно разочаровавшись в возможности добиваться своих целей в рамках партии, Потресов вышел из РСДРП и вступил в «Союз возрождения России».
И, наконец, в адресованном шведским социал-демократам в начале декабря 1918 г. письме Петроградской группы меньшевиков-оборонцев отмечалось, что события на Западе, которые сопровождали тогда «процесс ликвидации войны», а именно «падение тронов и перелицовка всей Центральной Европы», «бурный акт демократизации государств, связанный во многих местах с процессом национальной консолидации», осуществление буржуазно-демократической и национальной революции, как раз и являлись «как нельзя более полным оправданием точки зрения тех социалистов, которые с самого начала войны связывали с поражением Германии и её союзников ожидание уничтожения в Европе пережитков средневековья, завершение процесса её демократизации и огромного шага вперёд по пути к конечному освобождению рабочего класса из-под гнёта капитализма» [9: 689].
Таким образом, в конце 1917 г. и 1918 г. Потре-сов и его единомышленники из числа меньшеви-ков-«оборонцев», признавая наличие хищнических устремлений по отношению к России со стороны государств-участников обеих воевавших в ходе мирового конфликта коалиций, всё же не считали оправданным соблюдение нейтралитета «между двумя им-периализмами», а склоняли свои симпатии к Великобритании, Соединённым Штатам и Франции, которых расценивали в качестве естественных союзников России в её борьбе за обретение былой независимости от германского империализма.
Список литературы «Между двумя империализмами»: взгляды А. Н. Потресова и его единомышленников на вопрос о последствиях победы участников Первой мировой войны для России и Европы
- Амгинский М. Всероссийское совещание российской социал-демократии//Дело. № 9. 21 мая (3 июня) 1918 г.
- Брест-Литовск. (Из мемуаров Оттокара Чернина)//Архив русской революции. В 22 т. Т. 2. М., 1991.
- Волобуев О., Клоков В. Меньшевики//Политические партии России. Конец XIX -первая треть ХХ века. Энциклопедия. М., 1996.
- Думова Н.Г., Трухановский В.Г. Черчилль и Милюков против Советской России. М., 1989.
- Колокольников П. Областные государства и возрождение России//Дело. № 13. 5 (18) июля 1918 г.
- Кольцов Д. Между двумя империализмами//Дело. № 8 (14). 6 (19) мая 1918 г.
- Левицкий В. Своими силами//Дело. № 9 (15). 21 мая (3 июня) 1918 г.
- Меньшевики в 1917 году. В 3 т. Под общ. ред. З. Галили, А. Ненарокова, Л. Хеймсона/Т.3. Меньшевики в 1917 году: От корниловского мятежа до конца декабря. Часть вторая. От Временного Демократического Совета Российской Республики до конца декабря (первая декада октября -конец декабря). М., 1997.
- Меньшевики в большевистской России. 1918-1924./Меньшевики в 1918 году. Отв. ред. З. Галили, А. Ненароков. Отв. составитель Д. Павлов. М., 1999.
- П. К. Четвёртая годовщина//Дело. № 14. 19 июля (1 августа) 1918 г.
- Потресов А.Н. Избранное. М., 2002.
- Потресов А.Н. Завет Маркса//Дело. № 6-7 (12-13). 12 (29) мая 1918 г.
- Потресов А.Н. Посмертный сборник произведений. Париж, 1937.
- Тютюкин С.В. Меньшевизм: Страницы истории. М., 2002.