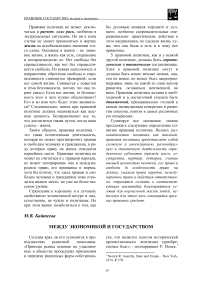Между экономикой и государством
Автор: Байтеева М.В.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 4 (22), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы соотношения интересов экономики и политики государства. Анализируются концепции автономии экономической сферы отношений, обоснование разделения частного и публичного права, пределы свободы частных интересов.
Государство и экономика, частное право, рыночная экономика, механизм защиты прав
Короткий адрес: https://sciup.org/142233560
IDR: 142233560
Текст научной статьи Между экономикой и государством
Сегодня вряд ли кто усомнится в преимуществах рыночной экономики. «Принцип рынка основан на узаконенных в обществе процедурах присвоения и передачи различных форм собственно- сти, что является залогом исторической преемственности легитимно приобретенных благ», - подчеркивает Р. Нозик.1
В отличие от плановой, рыночная экономика децентрализована, мобильна, не подвержена процессам стагнации. Она гарантирует широкое распределение благ, открывая всем желающим широкие двери для реализации своих способностей. Принцип конкуренции рыночной экономики гарантирует низкие цены и качество продукции ее потребителям. Но есть и обратная сторона стихийного рынка. Еще К. Маркс выделял наиболее уязвимые точки рыночной экономики: проблему непредсказуемости рынка; дефицит справедливости в обществе; тяжелые психосоциальные последствия для человека. Первый фактор приводит к ликвидации социализации и ограничению в пользовании общественными благами среди членов общества. Второй фактор, вследствие конкуренции, создает в глобальных масштабах асимметрию в возможностях улучшения своего благосостояния: не всем хватает денег, таланта и идей для достижения успешной жизни. Третий фактор приводит к изоляции индивидов вследствие двух предыдущих, способствуя развитию индивидуального эгоизма. Тем не менее, понятие справедливости в плоскости экономических реалий, к которому нередко апеллирует государство, лишено всякого смысла. Почему это так, объясняет история некоторых концепций о государстве.
В рамках классических теорий, материальная сфера, отражающая переплетение частных лиц, традиционно соотносится с возможностью свободной инте-грации.1 Эти идеи получили особое развитие у А. Фергюсона, Д. Юма и А. Смита. В своих работах, они наглядно показали, что экономическое развитие, оказывая влияние на средний класс, ведет к политическим революциям и ста- новится поводом улучшения законов и существующих институтов государственной власти. Благодаря этому, концепции государственного развития приобрели эволюционную, историческую форму, в которой отразились идеи о становлении экономической и политической жизни гражданского общества.2 Начиная с XVII века, концепции о государстве идеи стали отражать условия экономического, правового и технического развития европейского общества в сторону эволюции либерального граж-данства.3 Вместе с тем, традиционное понимание экономики уже принципиально отличалось от употребляемого ранее аналогичного понятия. Полезно вспомнить, что начиная с античности, понятие «экономика» отражал социальную власть в собственном доме (oikos), и изменение понятия отразило отчетливо изменения в истории государства. По мнению О. Бруннер, ранние формы экономических отношений, которые лежали в плоскости «хозяин- дом» обозначали не столько деспотичную власть и произвол, сколько обязанности защиты и обеспечения всем необходимым собственной семьи. Это образовывало фундамент всех старых социальных структур и определяло политические формы организации совместной жизни. Крестьянские хозяйства выполняли экономическую функцию но, одновременно, обеспечивали закрытость, независимость частной сферы. От этого зависели и соответствующие политические права. «Любая работа считалась экономикой, а oikos был первичным звеном, обеспечивающим целостность общественного поряд- ка» подчеркивал О. Бруннер.1 «Экономика» как учение об oikos охватывала совокупность человеческих отношений и деятельность, которые протекали в так называемом частном секторе и обеспечивали аутаркию, независимость челове-ка.2 В Риме семья уникальным образом объединялась через формы персональной власти patria potestas, с одной стороны, образовывая собственное «государство в государстве», а с другой, формируя другие структуры общества с разнообразными задачами самоуправления.3 Это было характерно не только для Рима. Как отмечает Дьяконов, даже в конфуцианстве во главу угла был положен культ нуклеарной семьи, имеющей независимую основу всех структур и союзов человеческого общества.4
Когда в XVIII веке власть распространилась на уровень нации, а затем на макроэкономику, «дом» закономерно потерялся в ее масштабах. Понятие прежнего «oikos» с его экономической автономией ограничилось чисто теоретическим значением. «Метаэкономиче-ский» фундамент, созданный Дж.С. Миллем, стал эрзацем традиционных отношений, а гармония взаимных интересов заменилась секуляризованным планом достижения «общего блага» в госу-дарстве.5 Нация как носитель государственного суверенитета стала тем «целым», которое представляет «всех», поэтому в личном качестве человек стал признаваться лишь в узкой сфере социальных отношений. Если человек старого общества имел лишь один статус, определявший его место в политической системе по мере его экономических воз- можностей, то уравнивание каждого в национальной модели государства привело к радикальному обострению противоречий между бедными и богатыми. Формальное равенство бедных создало упразднение экономической, политической и социальной дифференциации, что было принципиально невозможным в реальной жизни. Поэтому с отменой привилегий и конституирования нации, граждане, став формально равными перед законом, остались фактически неравными в обладании благами. Это привело к процессам последующей катализации социальных противоречий и делению общества на классы, что в свою очередь послужило основой для последующего создания марксизмом образа «пролетария» как человека, осуществляющего социальные перемены. Итог таких изменений всем хорошо известен.
Надо заметить, что отношение к собственности в общественной жизни было предметом критики еще в работах Ж.- Ж. Руссо.6 Именно его идеи осуществили переворот в основании классических представлений, распространенных по второй половине XVIII века в континентальной Европе. В результате появились такие формулировки, как «гражданское общество есть экономический порядок общества» или «гражданское общество есть неполитическая сфера отношений».7 Однако логика этих отношений наглядно показывала, что функции такого порядка сводятся к созданию собственного регулирования. В его центре стоит общность определенных интересов, а законы экономического развития по-прежнему выделяют индивидов из их сословий и состояний. Такое развитие самостоятельно регулирует отношения и

не может пониматься из традиционных категорий политики. Сама целостность общества, в которой рассматривалось экономическое развитие, обеспечивалась независимыми от государства структурами, которые формировали связи между продавцами и покупателями, работодателями и работ-никами.1 В таком понимании общество само формирует частные связи для регулирования и осуществляет собственное независимое развитие. В данном аспекте основой социального порядка и регулирования выступает партикулярный уровень отношений, необходимый для улучшения жизни и роста благосостояния, которые не зависят от «даров» государства.
Констатация этого факта логически вытекала из того, что потребности появляются не только в связи с физическими или умственными потребностями человека, но и в связи с развитием экономики, социальных изменений, обычаев и нравов. Поэтому позитивное признание природы потребностей человека стало исходным пунктом теории А.Смита. Анализируя теорию Смита, Х. Медик пишет: «Обозначая импульс человеческих действий как мотив, человеческое благо, по Смиту, могло быть выведено только из экономического формата от-ношений».2 Конечно, кроме естественных потребностей, человек имел и приобретенные потребности: желание общественного признания; «рафинирование» своих потребностей и интересов, стремление к власти. Однако любая зависимость, подчеркивал Смит, неизменно вела к появлению дифференциации, где политические отношения, связанные с властью, становятся естественным продуктом исторического развития. Фактически, А. Смит отделил политическую власть (civil government) от простой со- циальной соподчиненности (subordination), которая появлялась как предпосылка безопасности частной собственности в общественном контексте. Потребность в такой безопасности возникала, по его мнению, в связи с тем, что вследствие экономического неравенства постоянно существовала угроза присвоения чужой собственности. Конечно, такой «потребительский» подход не мог оправдать целей создания государства, тем не менее он дал идею «общественной эволюции» в сторону расширения его полномочий.3
И все же в этих тенденциях были неизгладимые противоречия, на что указывал Дж. Локк. Он рассматривал человека двойственным существом: с одной стороны, имеющим потребности, а с другой - разум, который управляет им. При этом Локк подчеркивал три принципиальных момента: отношения между этими свойствами определены природой; мотивы связаны с моральным качеством действий; определяющей силой этих отношений является воля человека.4 Согласно Локку, все эти качества определяют возможность сосуществования с другими людьми. Через потребности привычная мотивация стимулирует человека к определенным действиям, которые приводят к положительному результату через коммуникацию с внешним миром. В результате действий человека создается определенный продукт, который и становится его собственностью. Этот факт определяет необходимость частного присвоения, что становится последним из естественных моментов жизни человека. Почему последним кажется очевидным: в общественном измерении сохранение собственности всегда требует гарантий. Гарантий, но не принуждения или насилия, к которым часто апеллирует государство, подчеркивал Дж. Локк.
Более того, Локк подчеркивал, что на собственность может посягать само государство, поскольку проблема правовой защищенности собственности постоянно возникает в связи с налогообложением.
Не случайно, в эпоху Средневековья налогообложение граждан было возможно только с их согласия. Этот аспект был одним из факторов формирования понятия «народный суверенитет», через которое стало возможным обоснование взаимных прав и обязанностей государства и его подданных. Еще ранее различные форма защиты собственности через vindicatio directa и utilis сформировали основу феодальной системы с признаками различения dominium directa и utile.1 Между тем, критерием признания легитимности собственности всегда являлись не законы, а содержание «труда», который в определенном продукте получал индивидуальные естественно- правовые качества. «Через деятельность создавалась частная собственность, являясь естественным правом, которое позже и нашло выражение в субъективных правах», - писал Х. Медик.2
Тем не менее, в практике строительства государства возобладал узкий аспект концепции А. Смита. Так Смит развивал политическую экономию как учение о рыночном хозяйстве в государстве, где «экономика» была сферой регулирования государства, а не «дома». «Поскольку феодализм начинался в хозяйстве дома с «естественного» состояния обладания собственностью, он относился к феноменам натурального хозяйства», -писал он.3 В этом контексте власть в старом смысле все больше теряла признание, и традиционный «экономический взгляд» на регулирование собственности постепенно был упразднен. Политическое господство стало исклю- чительным продуктом государства, хотя субординация различных социальных отношений продолжала существовать независимо от него. Это вынудило сформулировать позже идеологию «lais-sez- faire»: «Гражданское общество является обществом коммерции, в котором государство обеспечивает гармонию ча-4
стных интересов».
По мнению Ю. Хабермаса, именно две функциональные системы - рыночной экономики и государственных учреждений - практически разрушили традиционные жизненные формы.5 «Специфическая ориентация Нового времени на будущее складывалась по мере того, как общественная модернизация разрушала пространство опыта предшествующих поколений», - писал Ю.Хабермас.6 Хотя эти идеи привели к «сужению» частной сферы, усечению роли гражданского общества, и дискон-тинуитету права общества, они также показали, что частная собственность остается «мотором» действий членов общества, определяя диалектику прогресса гражданского общества через процесс деятельности. Поскольку собственность традиционно выступала объектом права человека и до централизованного государства, все право общества относилось к частному праву, что подчеркивал еще Ф. К. фон Савиньи. Савиньи придавал развитию частного права особое значение, усматривая в нем залог экономической самостоятельности членов общества через автономию воли субъектов. Тем не менее, в условиях экспансивного развития государства, юридическая практика, требуя прагматических формулировок права, «переориентировалась» на формальную свободу и равенство субъектов, что привело к «расщеплению» публичной и частной сферу, и кодифи-
кации гражданского права.1 Формальное равенство, отражающееся в понятии правоспособности, долгое время не признавалась обществом.2 Это происходило потому, что «частное право везде ощущалось как созидание сферы, где государству отказано в праве на власть».3 Все это определило необходимость научных разработок в духе правового утилитаризма, которые осуществил позже Р. фон Йеринг.4
Признание социальной природы права привело Йеринга к созданию «теории цели», где сущность права связывалась им с защитой интересов.5 Появление цели сопровождается «проектом» будущих действий, но удовлетворение интереса приводит к пересечению с другими целями и право рождается в постоянной борьбе за собственные потребности и интересы. Хотя нельзя отрицать, что сеть специальных институтов государства создает определенные условия для реализации частных интересов, активизация этой деятельности всегда принадлежит субъекту права. «Что для пламени составляет свободное движение воздуха, то для правового чувства составляет свобода действия лица; запретить или стеснить ему эту свободу значит потушить его», - признавал сам же Р.Иеринг.6 Такая трактовка права позволила увидеть основу собственности в самом широком аспекте социального взаимодей- ствия человека с другими. Не гарантии политических институтов, а собственные формы волевого воздействия на ситуацию определяли достижение интересов в социальных связях. Как подчеркивает А. Мюллер - Амак, экономический стиль Нового времени возник не эволюционно из традиционных форм, а образовался 7 через разрушение средневекового мира. Таким образом, изменилась сама организация государства, которая через право на защиту собственности практически устранила право на социальную власть.
Несмотря на дифференциацию рассмотренных концепций, надо признать, что рынок и частная собственность являются сегодня предпосылкой формирования гражданского общества. Как подчеркивает Ф. А. Хайек, принцип справедливости в обществе может быть обращен исключительно к индивидуальным действиям, но не к государству с его целевыми процедурами распределения общественных благ.8 Только экономическая самостоятельность формирует возможности для самоорганизации общества. Не государство, а выравнивание интересов конкретных людей через рыночные механизмы приносят им благо. «Этот непреложный факт позволяет англо- саксонским политикам все чаще рассматривать государство в качестве органа, который организует обслуживание общества», - считает М. Ридель.9 «В индивидуалистическом характере правовой системы отражается функциональный императив саморегулирующихся рынков, которые вынуждены прибегать к децентрализованным решениям их участников, - подчеркивает Ю. Ха-бермас.10 Это делает необходимым пере-
Список литературы Между экономикой и государством
- 1.Nozick R. Anarchy, State und Utopia. - New York, 1974.-P.17ff.
- 2.Algazi G. Herrengewalt und Gewalt der Herren im späten Mittelalter: Herrschaft, Gegenseitigkeit und Sprachgebrauch. - Frankfurt, 1988.; Der Homo Economicus. Eine nationalökonomische Fik-tion von Hellmut Wollf. -Berlin-Leipzig, 1926.; Kopper J. Die Dialektik der Gemeinschaft.: Vittorio Klostermann. - Fr am M, 1960.
- 3.Rosenstock- Huessy E. Die europäischen Revolutionen und der Charakter der Nationen. - Stuttgart, 1951.; Schiewe J. Öffentlichkeit. Entstehung und Wandel in Deutschland. - Paderborn.: Schöningh, 2004.
- 4.Ferguson A. Versuch über die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft. - Fr. am Main: Suhrkamp, 1986.
- 5.Brunner O. Neue Wege der Verfassung- und Sozi-algeschichte. 2 Auf. - Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1968.- S.112.