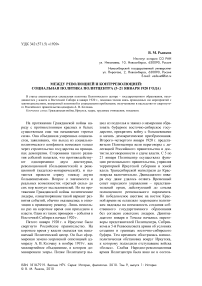Между революцией и контрреволюцией: социальная политика Политцентра (5-21 января 1920 года)
Автор: Рынков Вадим Маркович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется социальная политика Политического центра - государственного образования, находившегося у власти в Восточной Сибири в январе 1920 г., показана тесная связь проводимых им мероприятий с законодательством, внутренней политикой и социальными проблемами, полученными в наследство от свергнутого Российского правительства адмирала А. В. Колчака.
Гражданская война, иркутск, эсеры, трудовые отношения, эпидемии
Короткий адрес: https://sciup.org/14737173
IDR: 14737173 | УДК: 342
Текст научной статьи Между революцией и контрреволюцией: социальная политика Политцентра (5-21 января 1920 года)
На протяжении Гражданской войны наряду с противостоянием красных и белых существовала еще так называемая «третья сила». Она объединяла умеренных социалистов, заявлявших, что выход из социальнополитического конфликта возможен только через строительство государства на принципах демократии. Сторонники такого развития событий полагали, что противодействуют одновременно двум диктатурам, революционной (большевистской) и реакционной (кадетско-монархической), и пытаются провести страну «между двумя большевизмами». Вопрос о значимости и реальных возможностях «третьей силы» до сих пор волнует исследователей. Но на протяжении Гражданской войны политические лидеры, олицетворявшие такой вариант развития событий, обычно оказывались в оппозиции к правящему режиму. Лишь несколько раз на короткое время они приходили к власти. Один из таких примеров – события в Восточной Сибири в начале 1920 г.
Пятого января 1920 г. в Иркутске было свергнуто Российское правительство. На короткое время у власти оказался так называемый Политический центр. Он был сформирован земско-эсеровской оппозицией адмиралу А. В. Колчаку в ноябре 1919 г. как межпартийное объединение, в котором доминировали эсеры. Позже Политцентр вы- шел из подполья и заявил о намерении образовать буферное восточно-сибирское государство, прекратить войну с большевиками и начать демократические преобразования. Второго–четвертого января 1920 г. представители Политцентра вели переговоры с делегацией Российского правительства и достигли договоренности о сдаче власти. С 5 по 21 января Политцентр осуществлял функции регионального правительства, управляя территорией Иркутской губернии и зоной вдоль Транссибирской магистрали до Красноярска включительно. Двенадцатого января ему даже удалось созвать Временный совет народного управления – представительный орган, действующий до созыва полноценного регионального парламента. Но победоносное шествие на восток Красной армии не оставляло эсеровским политикам надежды на возможность создания собственного государственного образования без согласия советских лидеров. Девятнадцатого января в Томске начались переговоры представителей Политцентра, Сибрев-кома и 5-й Реввоенсовета армии об условиях создания и границах восточно-сибирского буфера. Тем временем обострилась военнополитическая обстановка вокруг Иркутска, к которому подходили отступавшие войска «белых». Слабая Народно-революционная армия Политцентра была явно не в состоя-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 1: История © В. М. Рынков, 2010
нии оборонять город. Поэтому пока в Томске шли переговоры, 21 января Политцентр вынужден был передать власть Иркутскому военно-революционному комитету.
Такова вкратце история Политцентра. Попытка организовать «демократическое» государство в Восточной Сибири завершилась неудачей, «буфер» продержался чуть более двух недель, не был никем признан и не смог серьезно повлиять на события в регионе. Тем не менее, на короткое время умеренные социалисты встали у руля власти и попытались воплотить свои представления о путях преодоления социального и экономического кризиса.
Исследователи обращались неоднократно к истории Политцентра, уделяя основное внимание обстоятельствам его возникновения в условиях антиколчаковского подполья, формирования им органов высшей власти Восточной Сибири, детальной реконструкции переговоров, которые он вел в Иркутске и Томске с представителями противоборствующих сторон о признании его в качестве регионального правительства [Берснева, 1995; Добровольский, 2002. С. 151–162; Мальцева, 1983; Сечейко, 2001; Солодянкин, 1960. С. 124–150; Струк, 2000; Шиловский, 2003; Ширямов, 1924]. Эти сюжеты, более или менее изученные, не затрагиваются в настоящей публикации. Цель данной статьи состоит в анализе социальной политики Политцентра, оказавшегося у власти на стыке двух периодов истории, между двух лагерей Гражданской войны. В работах предшественников, за исключением диссертации И. В. Берсневой [1995. С. 112–114], этот сложный аспект не нашел должного отражения. Другие авторы в лучшем случае указывали на стремление новой власти сформировать широкую социальную опору. Но затрагивали они эту проблему в отрыве от практической деятельности Политцентра, опираясь на его декларативные документы. При этом никто из исследователей не попытался осмыслить неизбежную связь внутренней политики этого органа государственной власти и свергнутого им Российского правительства.
Противостояние сторонников твердой государственной власти (реакционеров) и тех, кто выступал за «народоправство» и называл себя лагерем «демократии», началось до государственного переворота 18 ноября 1918 г., приведшего А. В. Колчака к власти. Оппозиция правящему режиму объединила кооперацию, служащих и гласных органов местного самоуправления, руководство социалистических партий, активистов профсоюзного и рабочего движения. Все они требовали сосредоточить полноту административного управления на местах в руках земств и городских дум, передать торговлю и снабжение в исключительное ведение кооперации, восстановить советские нормы трудового законодательства, установить минимальную заработную плату на уровне прожиточного минимума. Интересы этой широкой коалиции общественнополитических сил призван был отразить Политцентр. В манифесте о принятии им власти в общей форме декларировалось незамедлительное выполнение всей совокупности требований оппозиции 1. И. В. Берс-нева пишет о том, что особую активность проявило ведомство труда, быстро подготовившее законопроекты о передаче страховых учреждений в управление рабочих с переложением всех расходов по их содержанию на плечи нанимателей, расширении круга страхуемых, введении прожиточного минимума [Берснева, 1995. С. 112]. В действительности, Политцентр не предложил ничего нового: проекты упомянутых преобразований были разработаны сибирскими профсоюзными организациями еще осенью 1918 г. [Рынков, 2008. С. 212, 261–262]. Ведомство труда лишь подтвердило намерение следовать готовым рецептам, но не поставило вопрос о том, как их воплотить в жизнь.
Осуществлять распорядительную власть в Иркутске и его окрестностях Политический центр начал еще до того, как к нему перешла власть от Российского правительства. Первым его официальным постановлением стало распоряжение от 3 января 1920 г. о привлечении медицинского и фельдшерского персонала, фармацевтов и сестер милосердия к отбыванию трудовой повинности 2. Данный нормативный акт касался только Знаменского предместья и Рабочей слободы – тех окраин города, которые к тому времени уже контролировались Политцентром. Но правовым основанием для привлечения медиков на службу явилось постанов- ление Российского правительства от 6 мая 1919 г. о введении трудовой повинности.
Ключевое место в социальных преобразованиях Политцентра заняли вопросы трудовых отношений. Их самой животрепещущей и конфликтной стороной антикол-чаковская оппозиция считала взаимодействие «труда и капитала», т. е. рабочих частных предприятий и их нанимателей. Но Политцентру пришлось больше всего заниматься урегулированием отношения с государственными чиновниками. Начавшееся с лета 1919 г. отступление Белой армии вынудило Российское правительство приступить к вывозу казенных учреждений из прифронтовой зоны. Часть из них еще осенью начала прибывать в Иркутск. Правда, чтобы не загружать город, часть центральных учреждений разместили в других городах. Эвакуация не была завершена, одни служащие уже имели возможность приступить к службе, другие прибыли на место эвакуации, но еще не приступили к работе, третьи так и оставались в пути. Основная масса государственных чиновников после начала антикол-чаковского восстания в Иркутске осталась без работы. Но все они должны были получать жалование и эвакуационные пособия. Возник вопрос, кто должен выполнять финансовые обязательства свергнутого правительства. Существовала и другая животрепещущая проблема – новая политическая ситуация делала излишней огромную армию чиновников. Политический центр 11 января провозгласил, что видит одну из главных своих задач в сокращении штатов «бутафорских всероссийских министерств и центральных учреждений свергнутого правительства адмирала Колчака <…>, оставив на службе лишь самое необходимое их число для текущей работы и в объеме, соответствующем территории, на которую распространяется деятельность Политического центра» 3.
Сокращение государственного аппарата намеревались провести и раньше. Еще в Омске в августе – сентябре 1919 г. Российское правительство планировало серьезное урезание действующих штатов государственных учреждений и даже приступило к его осуществлению. Но тогда чиновничество в целом с пониманием отнеслось к этому намерению правительства, а сейчас оно заняло более активную позицию. Во вторую неделю января собрания служащих государственных учреждений выдвинули делегатов для переговоров с правительством об условиях сокращения штатов каждого из ведомств и о возможности продолжения работы при новом режиме 4. Быстро организовался и начал проявлять активность профессиональный союз служащих правительственных учреждений.
Результат переговоров не замедлил сказаться. Всем увольняемым Политцентр обещал выплатить причитающуюся по день увольнения заработную плату и двухмесячное заштатное содержание, предусмотренное действующим законодательством Российского правительства. Текст постановления содержал особую оговорку. Высокопоставленные чиновники, занимающие должности I–IV классов, и лица, привлеченные к ответственности следственными комиссиями, лишались права на получение заштатного пособия. Более того, по другому постановлению министры, главноуправляющие и их товарищи считались уволенными с 27 декабря 1919 г. 5
Следует учитывать, что общественные настроения в Иркутске к тому времени до предела накалились. В городе шли аресты бывших колчаковских министров и руководителей ведомств. 7 января 1920 г. была образована Чрезвычайная следственная комиссия. В умах общественности господствовала идея призвать к ответу не только членов Российского правительства, но и руководство отдельных ведомств. Например, 14 января 1920 г. собрание губернского учительского союза признало работу колчаковского ведомства просвещения неудовлетворительной. Основное обвинение состояло в том, что за период существования Временного сибирского и Российского правительств на востоке России было несколько случаев порок и даже расстрелов учителей. Указанные события происходили, главным образом, в Забайкалье и Приамурье, которые, почти не контролировались омской властью. Но участников совещания, сетовавших на неспособность ведомства народного просвещения пресечь действия атама- нов и наказать виновных, это обстоятельство не смутило. В вину министерству вменялась и слабая поддержка «земских образовательных начинаний» 6.
Но настроения общественности все же не определяли позицию Политцентра. Огласив 11 января 1920 г. намерение провести кардинальное сокращение государственного аппарата, чтобы избежать протеста чиновников, в тот же день Политцентр утвердил постановление, определяющее заработную плату в январе 1920 г. в размере, двукратно превышающем выплаты предыдущего месяца. Причем считались не оклады, а вся суммы выплат, включая надбавки за дороговизну 7. Двенадцатого января 1920 г. Политцентр, учитывая тяжелое материальное положение служащих правительственных учреждений, распорядился выдать им жалование до 20 января, не дожидаясь начала следующего месяца 8. Инфляция была такова, что двукратное повышение уже не покрывало ее и не позволяло выживать низкооплачиваемым категориям служащих. Тринадцатого января Политцентр принял одно важное уточнение, по которому январские зарплаты должны быть не менее 5 тыс. руб. 9 Практически это было утверждением временно действующей минимальной оплаты труда. Очевидно, введение этого минимума «подравнивало» существующую прогрессию оплаты труда, сближая заработки чиновников низших и средних классов. Восемнадцатого января 1920 г. условия сокращения работников были ещё более смягчены. Увольняемые служащие получали заштатное пособие в размере всей совокупности месячных январских выплат. Более того, по особым ходатайствам (постановление не уточняло, чьим) пособие могли получать и служащие I–IV класса 10.
Политцентр позаботился и о тех, кто оставался на государственной службе. Помимо заработной платы, повышенной в январе двукратно против декабрьской и учитывавшей пятитысячный минимум, в соответствии с постановлением от 12 января 1920 г. вводилось единовременное пособие за январь. Причем чем ниже был оклад содержа- ния, тем большую долю от него составляло пособие. Для низкооплачиваемых категорий оно должно было составить 2,5 оклада, для высших категорий – 0,5 оклада. Служащим ведомства путей сообщения, подразделявшимся не на классы, а на категории, установили четко фиксированную сумму пособия, которая колебалась от 3 500 до 5 900 руб. 11
Вопрос о сокращении штатов обсуждался в эти дни на междуведомственном совещании. Его участники на первое время решили определить масштаб сокращений каждого ведомства в пропорциональном измерении: министерство финансов – на 60 %, земледелия – на 80 %, юстиции – на 50 %, путей сообщения – на 75 %. Служащих, реально работавших в Иркутске, сокращения должны были затронуть не так сильно, ввиду того, что не все учреждения эвакуировались в Иркутск, некоторые остались в Омске или направлялись в Читу или Владивосток, другие застряли в пути. Служащим давалось до двух недель на подготовку отчета, после чего принималось окончательное решение персонально об оставляемых и увольняемых чиновниках и структуре будущих центральных ведомств. Таким образом, увольнения планировалось осуществлять только с февраля. Отдельные ведомства, например народного просвещения, решили не сокращать, а, напротив, доукомплектовывать. Причина состояла в задуманной Политцентром реорганизации – все профессиональные учебные заведения, находившиеся ранее в управлении различных министерств, срочно решили передать в распоряжение одного ведомства 12.
Конечно, решая вопрос о сокращении штатов, Политцентр не мог заботиться только о том, как избежать протестов. Идти на поводу у чиновников было опасно по двум причинам. Во-первых, с созданием «Чрезвычайной следственной комиссии о лицах, принадлежавших к составу Совета министров, и о высших должностных лицах учреждений свергнутого правительства Колчака» новоявленное правительство взяло на себя роль карающего меча правосудия. В глазах народа государственный аппарат был соучастником колчаковских преступлений, и иркутская пресса старалась усилить негативный образ свергнутого режима. Проявлять мягкость к опоре свергнутого режима на глазах у всех было опасно. Во-вторых, брать на себя непомерные финансовые обязательства перед сокращаемыми служащими тоже не входило в планы политиков, предполагавших остаться на некоторое время у руля власти. Поэтому решение о полном расчете всех увольняемых по сокращению штатов распространялось на служащих, эвакуированных со своими учреждениями из европейской части страны и Западной Сибири, но только при условии, что в ближайшее время их реэвакуация в места выезда невозможна. Стремясь заключить перемирие с советской властью, Политцентр рассчитывал организовать обратный вывоз чиновников, сняв с себя и бремя расчетов с ними по старым долгам казны и необходимость дальнейшего содержания этих людей, находившихся почти на положении беженцев. Рассматривался и другой вариант – переправка при помощи союзников увольняемых служащих на другую сторону Байкала – в «царство Семенова». Остальным увольняемым предлагалось организоваться в трудовые артели. Любопытно, что служащих собирались дифференцировать по политической лояльности. Увольнительное пособие предлагалось выдавать только лицам, не опорочившим себя сотрудничеством с колчаковской властью 13.
Примечательно, что Политцентр продекларировал, что в ближайшее время выработает новые принципы оплаты труда служащих и рабочих казенных предприятий, которые будут согласованы с требованиями профсоюзов. Но как раз в этом направлении ничего реального предпринято не было. Вместо этого центральная власть успела лишь установить оклады высшим служащим – членам Политического центра, уполномоченным ведомств, их заместителям, членам юридического совещания, следственных комиссий и др. – по 12 тыс. руб. 14 Здесь господствовала уравнительность. Всем предусматривалась одинаково высокая заработная плата. Что же касается регулирования отношений между рабочими и администрацией предприятий, определения прожиточного минимума, то заботу об этом явочным порядком взял на себя Иркутский губернский комитет профсоюзов, легко отстранив ведомство труда от исполнения его основных задач 15.
Временный совет народного управления на заседании 16 января 1920 г. обязал все частные и общественные предприятия и учреждения выплатить своим рабочим и служащим полную заработную плату за дни восстания – с 23 декабря 1919 г. по 6 января 1920 г. Даже работники, получавшие сдельную оплату, должны были удовлетворяться содержанием из расчета их среднего заработка 16. И. В. Берснева утверждает, что предприниматели проигнорировали это постановление, но никаких доказательств своего тезиса не приводит [Берснева, 1995. С. 114].
Попытка создания собственной Народнореволюционной армии заставила Политцентр заниматься проблемами денежного обеспечения военнослужащих. Взять за основу воинские оклады, действовавшие в армии Российского правительства, казалось нецелесообразно, хотя последнее их повышение произошло 10 декабря 1919 г. Стремительная инфляция сделала нормы выплат конца 1919 г. недопустимо низкими уже к январю 1920 г. Не предрешая новую систему окладов, иркутская власть распорядилась выдать каждому военнослужащему единовременное пособие, которое дополнит их жалование до следующих размеров:
|
Звание |
Оклад (руб.) * |
|
|
тыловой |
фронтовой |
|
|
Рядовой боец |
1 000 |
1 500 |
|
Отдельный командир |
1 200 |
1 800 |
|
Взводный командир |
1 500 |
2 200 |
|
Фельдфебель |
1 800 |
2 600 |
|
Младший офицер |
6 500 |
8 500 |
|
Командир роты |
7 500 |
9 500 |
|
Командир батальона |
8 500 |
10 500 |
|
Командир полка |
9 500 |
11 500 |
|
Командир бригады |
10 500 |
12 500 |
|
Начальник дивизии |
11 500 |
13 500 |
|
Командир корпуса |
12 500 |
14 500 |
* Оклады военнослужащих Народно-революционной армии Политцентра (январь 1920 г.). Таблица составлена по: ГАНО. Ф. 867. Оп. 1. Д. 1. Л. 40.
По декабрьскому постановлению Российского правительства предусматривалась разница между фронтовыми и тыловыми выплатами в 25 %, причем устанавливалась она путем выплаты фронтовой надбавки к единым окладам. Политцентр ввел разную шкалу окладов, увеличив разрыв для рядового состава примерно до 45–50 %, а для офицерского – на 2 тыс. руб. Разница между выплатами высшим и низшим чинам в 12,5 раз не должна вводить в заблуждение. Просто командный состав получал деньгами стоимость провиантского довольствия в размере 3,5 тыс. руб. Офицерам устанавливалось жалование, сопоставимое с заработками служащих. В этом отношении примерное соответствие «табели о рангах» воинских и гражданских окладов было соблюдено.
По сохранившимся документам сложно составить полное представление о том, в какой степени решения о новом порядке выдачи зарплаты выполнялись и какую часть обещанных денег получили государственные служащие. Можно установить точно, что в начале января руководителям отдельных ведомств спешно отпускались деньги для авансирования служащих. В частности, такое распоряжение от 10 января 1920 г. касалось Главного управления российского общества Красного креста 17. Судя по дате, авансы выдавались в размере, не превышавшем декабрьские оклады, так как это происходило до принятия нового порядка начисления оплаты, утвержденного 11–18 января. Документальные сведения о более поздних выдачах денег не установлены, хотя газеты сообщали, что низшим служащим выданы в счет январской зарплаты по 5 тыс. руб.18 Есть основания полагать, что все постановления Политцентра о начислении заработной платы немедленно принимались к исполнению руководителями ведомств, и по ним очень быстро составлялись ведомости на оплату. Дело оставалось только за реальным денежным обеспечением 19. Отметим, что в дни пребывания у власти Политцентра Экспедиция заготовления государственных ценных бумаг осуществила масштабную эмиссию – по разным оценкам от 1,2 до 1,4 млрд руб. Но делопроизводство свидетельствует о том, что правительство не располагало крупными суммами и старалось экономить на всем, имея в своем распоряжении лишь остатки средств Российского правительства. По-видимому, большая часть напечатанных в эти дни денег в распоряжение правительства не поступила.
В этой ситуации Политцентру просто невозможно было выполнить свои обещания о повышении зарплат и пособий. Более того, он оказался не в состоянии погасить неоспоримые, но весьма значительные долги прежнего правительства перед трудящимися. Вот типичный пример – из Кургана на ст. Иннокентьевскую был эвакуирован лудильно-жестяной завод. За несколько месяцев эвакуации коллектив получал оплату и эвакуационные пособия по ставкам, действовавшим в августе 1919 г. Но решением Российского правительства от 28 октября 1919 г. ставки были трехкратно увеличены с августа месяца. Теперь из казны предстояло выплатить рабочим и служащим пятимесячную разницу окладов, что составляло 1 684 740 руб. 20 Эти средства так и не были найдены.
Совершенно очевидно, что Политцентр быстро стал заложником собственных популистских обещаний, усугубляя свою непопулярность. Тринадцатого января 1920 г. в Иркутске собрался съезд служащих, рабочих и мастеровых Забайкальской железной дороги. Он принял резолюцию, в которой признал решения Политцентра от 12 января 1920 г. о двукратном повышении зарплаты противоречащим его же собственной декларации. Участники съезда потребовали немедленно выплатить авансом за январь суммы в соответствии с вновь пересчитанным прожиточным минимумом, который существенно превышал увеличенные ставки 21.
Российское правительство успело оставить после себя значительное количество нормативных актов, связанных с корректировкой пенсионного законодательства в условиях кризиса и инфляционной экономики. Одной из ключевых идей этого направления его социальной политики стало обеспечение лиц, пострадавших в борьбе с советской властью, и их семейств [Рынков, 2007. С. 110]. Политцентр волновали схожие проблемы, с той лишь разницей, что произошла смена политических и идеологических приоритетов. У нового режима были другие противники и герои. Восьмого января Политцентр утвердил создание особого фонда для обеспечения семей погибших в борьбе с реакционным правительством адмирала Колчака 22. Этим актом не только проявлялась забота о тех, кто поддержал новый режим в период его сложного становления. С первых дней существования Политцентр пытался формировать элементы новой идеологии, культа новых героев борьбы за «сибирскую демократию».
Апелляция к социальной справедливости встречалась в законодательных актах, призванных разрешить судебно-процессуальные вопросы. В частности, именно так мотивировалась необходимость осуществить разгрузку тюрем. Свергнутый режим обвинялся не только в политических репрессиях, но и в преступном равнодушии к узникам. Необходимость максимально широко применить условно-досрочное освобождение обосновывалась не признанием невиновности заключенных. Главными причинами стали переполненность тюрем, плохое питание узников и неудовлетворительное отопление тюремных помещений. Кроме того, скученность людей в тюремных помещениях стала причиной распространения эпидемий. «Во имя человечности и справедливости, в интересах охранения населения от распространения заразных заболеваний необходимо принять срочные меры к разгрузке мест заключения», – гласило постановление 23.
Но не обошлось и без политической ангажированности. Решение о первых социальных трансфертах, принятое Политцентром, обосновывалось сугубо идеологически. Девятого января высший орган государственной власти распорядился создать «фонд помощи освобожденным политическим». Законодатели призывали «исполнить долг освобожденного народа перед борцами за народное дело, томившихся в тюрьмах и ссылках». Фонд предписывалось пополнить из средств государственного ка- значейства, отчислений из бюджетов городских и земских органов самоуправления, общественных организаций, частных пожертвований. Политцентр распорядился немедленно отпустить в него из казны 1 млн руб. – деньги, правда, не очень большие по тем временам 24. В этом направлении была проявлена чрезвычайная оперативность. Уже 12 января Иркутский губернский комитет помощи политическим освобожденным и их семьям утвердил весьма амбициозный план благотворительных мероприятий 25.
Политцентр получил от своего предшественника одну очень серьезную социальную проблему – эпидемию тифа, которая вместе с волной беженцев, наводнивших Восточную Сибирь, захлестнула города региона. Уже Российское правительство осенью 1919 г. предприняло чрезвычайные меры по улучшению санитарной ситуации, выделив значительные материальные и денежные средства для этих целей. В конце 1919 – начале 1920 г. в район Иркутска были стянуты огромные запасы медикаментов, а эвакуированные военно-медицинские учреждения заранее приготовлены для принятия больных и раненых. Но боевые действия привели к тому, что армия отступала окольными путями, и госпитали пустовали. После решения американского Красного Креста свернуть свою работу в регионе, 10 января эта организация передала все госпитальное имущество в распоряжение Иркутской городской управы. Русский персонал американских санитарно-медицинских учреждений перешел на российскую службу и поступил в ведение «буферного» правительства 26. Все передаваемое имущество и персонал начали распределять между больницами Иркутска 27. Впрочем, быстро выяснилось, что для поддержания в рабочем состоянии вновь полученных учреждений срочно требуются не менее 8 млн руб. 28
Но для кардинального улучшения ситуации правительство решило привлечь к борьбе с эпидемией само население. В частности, Политцентр подготовил постановление о создании волостных санитарных попечи-тельств. Оно включало всех находящихся в волости медицинских, профсоюзных, кооперативных работников и представителей местных органов власти. Попечительство призвано было оказывать поддержку работе медицинского персонала и принимать самостоятельные меры по борьбе с эпидемиями 29.
Реальные шаги Политцентра по борьбе с эпидемическими болезнями свелись к спешному выделению небольших сумм: 200 тыс. руб. Тайшетской уездной земской управе, 500 тыс. Иркутской губернской земской управе 30. Это легко понять, если учесть катастрофический дефицит средств в распоряжении Политцентра. И лишь в последний день своей работы Политцентр распорядился ассигновать по 1 млн руб. на противоэпидемические мероприятия Иркутскому губернскому земству и городскому самоуправлению Иркутска 31. Но в условиях столь тревожной ситуации странным выглядит решение о выделении по 1 млн руб. на организацию рабочего и крестьянского съездов 32. Установление отношений с ведущими общественными организациями оказалось в тот момент важнее мер по налаживанию санитарной работы.
Из 59 постановлений Политического центра около десятка было связано с кадровыми вопросами. Из остальных почти половина затрагивала различные аспекты социальной политики. Вместе с тем Политцентр занимался прежде всего разрешением вопросов, связанных с организацией своей власти, созданием представительного органа, установлением контактов с кооперативами, профсоюзами, земскими и городскими самоуправлениями, проведением переговоров с другими претендентами на власть в Восточной Сибири. Очень значительные административные и материальные ресурсы пришлось отвлечь на создание демократического имиджа, получение поддержки от общественных организаций. Для разрешения реальных социальных проблем почти не оставалось возможностей.
Политцентр всеми силами пытался увеличить идеологическую дистанцию между собой и колчаковским режимом, убедить окружающих, что он не его наследник, но победитель. Именно поэтому в декларативных и нормативных актах Политцентра присутствует «социальный реваншизм». Идея возмездия служителям повергнутого предшественника получила реальное воплощение во многих практических мероприятиях, предусматривавших материальную дискриминацию служащих по политическому признаку. Тем не менее, большая часть того, что вынуждена была делать новая власть, оказалась так или иначе связана с наследием свергнутого Российского правительства, с распределением его ресурсов и выполнением его обязательств перед населением. Неспроста основные мероприятия почти целиком ограничились узкой областью трудовых отношений с государственными служащими.
В остальных сферах социальной политики Политцентр не смог проявить инициативы, не отличался четким видением перспектив и наличием программы. Пришедшие к власти лидеры ограничились ситуативной реакцией на возникавшие проблемы. Они слабо представляли объем работы, с которым им пришлось столкнуться, возможные варианты решения стоявших перед государством задач и пределы правительственного влияния на общество и народное хозяйст-во.Деятельность Политцентра в январе 1920 г. показала, что курс, разработанный некогда антиколчаковской земско-эсеровской оппозицией, утопичен и оторван от реальной жизни. Более того, декларация намерения воплотить его в жизнь не укрепила социальную базу формирующегося режима, а послужила поводом для завязывания серии новых социальных конфликтов, которые, в конце концов, способствовали уходу Политцентра с арены борьбы за власть в регионе. Ему не на кого было опираться, не у кого просить защиты.