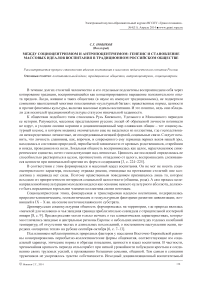Между социоцентризмом и антропоцентризмом: генезис и становление массовых идеалов воспитания в традиционном российском обществе
Автор: Новиков Сергей Геннадьевич
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Личность, общество, государство: историко-методологический аспект
Статья в выпуске: 4 (31), 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается процесс становления идеалов воспитания в массовом педагогическом сознании России.
Воспитательный идеал, традиционное общество, антропоцентризм, социоцентризм
Короткий адрес: https://sciup.org/14822089
IDR: 14822089
Текст научной статьи Между социоцентризмом и антропоцентризмом: генезис и становление массовых идеалов воспитания в традиционном российском обществе
В течение долгих столетий человечество и его отдельные подсистемы воспроизводили себя через копирование традиции, воспринимавшейся как концентрированное выражение положительного опыта предков. Люди, жившие в таких обществах (в науке их именуют традиционными), не подвергали сомнению накопленный многими поколениями «культурный багаж»: нравственные нормы, ценности и прочие феномены культуры, включая массовые идеалы воспитания. И это понятно, ведь они обладали для носителей традиционной культуры статусом изначальной заданности.
К обществам подобного типа относилась Русь Киевского, Удельного и Московского периодов ее истории. Разумеется, массовые представления русских людей об образцовой личности возникали не вдруг, а уходили своими корнями в доцивилизационный мир славянских общин – тот социокультурный космос, в котором индивид окончательно еще не выделился из коллектива, где господствовали непосредственно личностные, не опосредованные вещной формой, социальные связи. Следует помнить, что личность славянина, как, впрочем, и современного ему германца первых веков нашей эры, находилась в состоянии природной, первобытной зависимости от кровных родственников, старейшин и вождя, проводников их воли. Локальная общность воспринималась как целое, нерасчлененное синкретическое единство, нечто господствующее над личностью. Ценность же последней определялась ее способностью растворяться в целом, противостоять отпадению от целого, воспроизводить сложившиеся ценности при минимальной критике их форм и содержания [3, с. 224–225].
В соответствии с этим формировался и массовый идеал воспитания. Он не мог не носить соци-оцентристского характера, поскольку отражал реалии, очевидные на протяжении столетий: вне коллектива у индивида нет силы. Поэтому нравственным поведением признавалось лишь то, которое исходило из приоритетности интересов социальной целостности (общины, рода). А сам процесс целенаправленной инкультурации молодежи виделся как освоение некоего культурного абсолюта, должного быть переданным взрослыми членами коллектива своим потомкам.
Социоцентристская этика, фиксируемая и транслируемая идеалом воспитания, подкреплялась природно-климатическим, геополитическим и геокультурным факторами развития цивилизации, возникшей в IX – X вв. на основе восточнославянского субстрата.
Древнерусская социокультурная общность формировалась на территории, где природа являлась «мачехой для человека» и чья западная граница приблизительно совпадала с отрицательной изотермой января [8, с. 9]. Предки россиян могли только мечтать о тех климатических характеристиках, которыми отличались западные и центральные регионы Европы: о небольших амплитудах годовых колебаний температур, об отсутствии частых и длительных похолоданий, о постепенном наступлении осени, нередких «возвратах тепла» на рубеже сентября-октября [6, с. 7–13].
Под влиянием неблагоприятных природных факторов у населения Восточно-Европейской равнины консервировались первобытно-коллективистские формы общежития, соответствующие им социальный характер, этические нормы и образцы поведения, ценности и идеал воспитания. В частности, чрезвычайная краткость периода сельхозработ при низкой урожайности побуждали крестьян к соединению своих трудовых усилий, к проживанию большими семьями, общиной. Тем самым в сознании тружеников не укоренялось чувство собственности. Исходный доцивилизационный воспитательный идеал и этический стандарт, таким образом, не подвергались проверке реалиями иного, вещного типа социальности. В среде общинников сохранялась культурная ориентация на господство целостности над личностью, находила подкрепление убежденность в том, что только сообща, подавляя личные, индивидуальные интересы, можно обеспечить собственную жизнь и жизнь своих близких.
В пользу социоцентристского мировидения играло и геополитическое положение Руси. Существование на стыке Востока и Запада обрекало ее на беспокойную жизнь, полную тревог и невзгод. С.М. Соловьев насчитал за период с 1055 г. по 1462 г. 245 летописных известий о нашествиях и столкновениях с иноземцами, большая часть которых (200) выпала на период с 1228 г. [8, с. 37–38, 502]. Вычисления позднейших ученых показывают сохранение данной тенденции и в дальнейшем: Россия с 1380 г. по 1918 г. провела в войнах 334 года, что составляет две трети этого исторического отрезка. При этом общее количество военных лет превышает число календарных (666 против 537), поскольку страна воевала нередко с несколькими противниками одновременно [10, с. 82–83]. В силу этого лишь государство могло обеспечить сохранность невысокого избыточного продукта от алчных соседей, угрожавших оставить не только без куска хлеба и крова, но и ставивших под вопрос самое физическое существование этноса. Фактор военной угрозы играл большую роль в сохранении социоцентристского характера массового идеала воспитания в течение всего второго тысячелетия. Ужасы бесконечной череды войн, набегов «хищной Азии» привели к тому, что каждый русский признавал нормальным принесение себя в жертву интересам державы, полагавшейся гарантом выживаемости.
Социоцентризм сохранял свои позиции в мировидении многих поколений русских людей и благодаря геокультурному фактору российского культурогенеза. Русичи, в отличие от средневековых западноевропейцев, создавали свою цивилизацию на голом месте, на почве, не «прогретой» античностью. Напомним, будущим французам, итальянцам и прочим этнокультурным общностям, формировавшимся на территории бывшей Римской империи, в наследство достались не только тексты античных авторов, но и такие материальные следы греко-римской культуры как мощеные дороги, города. Кроме того, становящаяся западноевропейская цивилизация в качестве антропного субстрата располагала индивидами, чьи предки веками жили в обществе частных собственников. А это уже само по себе играло большую роль для торжества антропоцентристского мировидения, вырабатывавшегося в античности. Вот почему складывавшаяся там система обучения и воспитания стала ориентировать молодежь на идеал независимой личности – продукт частнособственнических отношений, а не на идеал «человека-песчинки».
Древнерусская же цивилизационная социокультура, а в еще большей степени ее преемница – российская цивилизация, – строилась в «дебрях лесных», на болотах и речках, на территории отдаленной от древних цивилизационных очагов. Речь, разумеется, не идет об абсолютной изолированности или закрытости молодой цивилизации. Напротив, древнерусская интеллектуальная и властная элита могла напрямую черпать духовную пищу из рук самой передовой и культурно развитой державы того времени – Византии. Однако рецепция античного наследия на Руси носила исключительно книжный характер и была лишена поддержки в предшествовавшем цикле социокультурного развития [9, с.252–253]. К тому же из пришедшей вместе с христианством античной литературы русскими книгочеями воспринималось то, что соответствовало социокультурным реалиям и потребностям государства, оказавшегося на пограничье христианских и иноверческих народов. Элитой был востребован, прежде всего, этатистский сегмент античного наследия.
Социоцентристский характер русской культуры и ее массового идеала воспитания, вероятно, мог бы быть скорректирован под влиянием культурных контактов с Западной Европой. Однако Схизма 1054 г., а затем нашествие монголов в 1237 г. отрезали Русь от Запада. Ордынское владычество значительно укрепило социоцентристские элементы русской социокультурной матрицы, способствуя дальнейшему воспроизводству изначального властно-собственнического типа социальности. В нем собственность оставалась функцией власти и не существовала, по сути, отдельно от нее. Именно неразвитость института собственности не позволяла сформироваться на Руси свободной личности. Ин- дивиду, лишенному материальной независимости, приходилось рассчитывать только на защиту мира-общины или государства. Последнее же требовало в обмен от своих подданных покорности и четкого выполнения повинностей.
В итоге в массовом сознании постепенно складывалась иная версия социоцентристского идеала воспитания. Если в первые века существования древнерусской цивилизации господствовал ее общинный (соборный, выражаясь словами А.С. Ахиезера) вариант, то теперь он все больше уступает место авторитарному варианту. Иначе говоря, не «мир» (крестьянская община, коллектив) был теперь носителем Правды, а вождь, олицетворявший собой силу общности.
Эта трансформация происходит в XV–XVI вв., с обретением Русью независимости от Орды и становлением самодержавной власти. Утверждению в массовом сознании авторитарного идеала воспитания способствовала целенаправленная идеологическая политика государства и церкви. Речь идет об обосновании стихийных народных авторитарных нравственно-психологических установок теоретическими выкладками мыслителей. На рубеже XV–XVI вв. появляются послания инока Филофея, сформулировавшего концепцию «Москва – третий Рим», «Сказание о князьях Владимирских» и другие сочинения, доказывавшие богоустановленность власти московского государя и способствовавшие ее сакрализации. На монарха и его главный титул «царь» переносились атрибуты Царя Небесного. «Подлинный царь» уподобляется Христу, воспринимается как образ Бога, живая икона [11, с. 205]. Понятно, что такое понимание роли монарха напрямую воздействовало на массовые идеалы воспитания, репродуцируясь с помощью воспитательных институтов: церкви и семьи.
Авторитарный вариант массового идеала воспитания приводил к сохранению соответствующей ему парадигмы воспитания, адекватных ей воспитательных технологий, строившихся на основе субъ-ект-объектных отношений. В этой связи нельзя не упомянуть о «Домострое» – наставлениях для домашней жизни, составленных любимцем Ивана Грозного священником Сильвестром. В книге от человека требовалось «вручение себя»: в семье – отцу, в государстве – царю, во вселенной – Богу. Таким образом во взаимоотношениях христианина и Господа, подданного и государя, ребенка и отца действовал один и тот же принцип: безусловная «отдача себя» одной стороны и милость, забота, покровительство другой. Доводя этот принцип до логического конца, Сильвестр был вынужден оправдывать и патриархальный произвол. Он разрешал отцу бить домочадца даже в случае, если тот оказывался вполне правым.
На авторитарные, жесткие методы воздействия на растущего человека средневековая русская педагогика возлагала надежду как на «злобы искоренителя и насадителя добра». Средневековый автор поучал воспитателей: «Любя сына, учащай ему раны, не жалей жезла; дщерь ли имаши, положи на ней грозу свою». Разумеется, практика далеко не всегда следовала за теорией. Как выразился В.О. Ключевский: «по жестокому педагогическому плану еще нельзя судить о суровости педагогии, даже о жестокости самих начертателей плана» [5, с. 85]. Тем не менее, показателен подход к воспитанию: младший сородич должен принять волю старшего, независимо от своего возраста, жизненного опыта, личного мнения.
Выстроенная в «Домострое» изоморфная модель безусловной врученности индивида внешней силе стала «руководством к действию» при осуществлении воспитательного процесса на любом уровне (от макросоциума до микроколлектива). Вследствие этого у индивида, от которого требовали из поколения в поколение абсолютной покорности Богу, царю, отцу, сохранялось восприятие себя песчинкой в океане песка, имевшей значение и вес только в массе других частичек.
Иерархия ценностей и характер идеала «человека воспитанного» не подверглись «мутации» ни в XVI в., ни в XVII в., поскольку властно-собственнические отношения продолжали господствовать в Московском царстве точно так же, как в Киевской и Удельной Руси (IX–XV вв.). Власть оставалась конституирующим элементом экономики; имуществу индивидов по-прежнему угрожали неправовые поборы и государственный произвол. Поголовно зависимое от государства население развивало в себе те черты социального характера, которые помогали ему жить и получать хотя бы минимальное психологическое удовлетворение.
Педагогическое сознание испытывало на себе прямое воздействие этого «московского» типа отношений. Норма социального бытия (покорность вышестоящим) ретранслировалась педагогами, приобретала форму поучений того же Сильвестра или Симеона Полоцкого. Придворный проповедник Сильвестр и монах Симеон, ставший учителем наследника престола, были современниками Я.А. Ко-менского и Дж. Локка. Однако социально-этические и педагогические ориентации произведений российских и зарубежных авторов диаметрально противоположны. «Великая дидактика» проникнута пафосом гуманизма и глубокого демократизма, отдает приоритет разуму, оставляет насилие за рамками процесса воспитания. А педагогические воззрения Дж. Локка уже целиком базировались на принципиальной для английского мыслителя идее свободы личности. Московские же авторы, напротив, нацеливали своих читателей на педагогику абсолютного послушания. Напрасной тратой времени было бы искать причины расхождений философско-педагогического систем отечественных и иноземных мыслителей в различном типе их мировоззрения: религиозном у Сильвестра и Симеона и секуляризированном у Коменского и Локка. И те, и другие были последователями Христа, чьи проповеди звали как раз к свободе, обращались к сознательной личности. Дело здесь в ином: отечественные мыслители отражали в своем творчестве социальные реалии собственной страны. А они были таковы: в Московии господствовали вертикальные связи господства-подчинения, что неизбежно формировало вполне определенные черты социального характера, выводило на вершину системы ценностей не свободу (пустой звук для абсолютного большинства членов властно-собственнического общества), а безропотность. Понятно, что такому порядку вещей соответствовал именно авторитарный идеал воспитания.
Впрочем, не будем впадать в крайности. На отечественной почве всходили также «культурные побеги» иного, антропоцентристского характера. Индикатором появления в России элементов индивидуалистического сознания могут служить, в частности, Покаянные книги XIV–XVII вв. Они представляли собой перечень грехов, в которых верующему надлежало каяться. Данные книги свидетельствовали о нарождении в России людей, учившихся и научившихся делать индивидуальный выбор между нравственным и безнравственным [4]. Именно в их среде была сформулирована идея «самовластия» человека, т.е. идея его самоценности. Таким образом, антропоцентристский заряд христианства пробивал бреши в «крепости» социоцентристского мировоззрения.
Гипотетически можно предположить, что укоренение и распространение идеи самоценности человека создало бы почву для рождения в России учебных заведений, схожих по духу, скажем, с манту-анским «Домом радости» Витторино да Фельтре или гуманистическими школами Гаспарино Барциц-ца, Гварино да Верона. В конце концов, русские мыслители черпали вдохновение из того же источника, что и западноевропейцы – христианства, которое, поставив в центр вероучения человека, усилило ант-ропоцентристский посыл античности. И как знать, может быть и в Московском царстве были бы сформулированы этико-педагогические идеи, подобные тем, которые выдвинули на Западе Лоренцо Валла, Леон Батиста Альберти – необходимости воспитания у индивида понимания важности личного интереса человека, гармонично сочетающегося с интересами других людей. И русские сторонники «самовластия человека» сумели бы предложить своим соотечественникам развернутое учение о свободе воли человека, как это сделал Дж. Пико делла Мирандола, определивший свободу в качестве главного свойства индивида, основного его достоинства.
Однако этот духовный процесс в Московии был прерван вмешательством государственной власти и «ревнителей старины» из числа высшего духовенства. Свободомыслящих объявили еретиками и покарали. Так, в начале XVI в. разгрому подвергся московский кружок дьяка Федора Курицына, среди членов которого находим и сноху Ивана III Елену Стефановну Волошанку. А в середине того же столетия в тюрьмы и монастыри были помещены вольнодумцы Матвей Башкин, Феодосий Косой, игумен Троице-Сергиева монастыря Артемий и их единомышленники.
Что побудило возникший союз церкви и государства воздвигнуть барьер на пути философско-этических и педагогических идей, однотипных западноевропейским? Оба социальных института, отстаивая самобытность Руси, с большим опасением относились ко всяким новым веяниям, идущим вразрез с традицией, особенно если они шли из-за границы. Свободомыслие потенциально угрожало сложившемуся типу социальности, и потому было встречено «в штыки» государством и ставшей фактически под его начало церковью. Последняя, видя во власти московского правителя главного защитника православия от магометанства и католичества, провозгласила, что «царство выше священства». Клирики идеологически обеспечили культ Православного Государя, укрепив социоцентризм в его авторитарном варианте. В результате русский царь делался «более сакральной фигурой, чем патриарх [11, с. 226].
Конечно, победа авторитарного идеала воспитания над зачатками антропоцентристски ориентированной нравственности, авторитарной педагогики над нарождавшейся гуманистической парадигмой воспитания была одержана не вдруг. Ей предшествовали две волны споров вокруг идеи «самовластия». Первый «тур» дискуссий выпал на рубеж XV–XVI вв., а второй – на середину XVI в. После поражения поборников свободы творческого духа в начале XVI в., идеи «самовластия души» и «самовластия ума» продолжали жить и развиваться концептуально. Феодосий Косой, доводя их до логического конца, прямо провозгласил безусловную автономию человека и независимость его от всякой власти, кроме власти Божьей. Он утверждал, что никто не может осуждать человека, самовластного по Божьему дару. Таким образом, Феодосий Косой пришел к радикальному отрицанию авторитарного идеала воспитания, оставлял за воспитателем и воспитанником право самим решать, что делать и как жить. Характерно, что себя и своих последователей он называл не рабами, а «чадами» Божьими [4, с. 157 – 159; 12, с. 83 – 84].
Данная позиция не получила поддержки государства, которое солидаризировалось с концепцией, развивавшейся осифлянами. Иосиф Волоцкий еще в начале XVI в. настаивал, что «православные цари и князи», получая власть от Бога, вправе судить, что есть правда и не должны давать воли «зло-творящим» людям. Понятно, что в таком случае вся система воспитания обязана была лишь реализовывать директивы властей предержащих. Данная точка зрения позволяла им стать силой, которая по определению обязана определять содержание и цели воспитания. В итоге в XVI в. в качестве философско-педагогического фундамента государственной системы воспитания закладывается идея о том, что духовное продвижение индивида к совершенству, его возрождение осуществимо единственно через подчинение власти. Иными словами, авторитарный идеал воспитания обрел свои классические очертания. Его твердые позиции в массовом русском сознании подтвердила идейная борьба, разгоревшаяся в XVII в. между сторонниками и противниками церковной реформы. В ходе полемики обнаружилось, что «самовластие» человека отвергалось не только консерваторами из правительственного лагеря, но и бунтарями вроде протопопа Аввакума. Анализ истории идейной борьбы времен раскола позволяет нам утверждать, что обеими сторонами разделялся авторитарный идеал воспитания. И старообрядцы, и никониане воспринимали (и учили воспринимать) иную точку зрения как априорно враждебную, сортировали людей на «своих и оборотней зла, на людей и нелюдей, на тех, кому следует жить, и тех, кого следует “ножом переколоть”» [1, с. 147], т.е. они коренным образом расходились с христианским вероучением и с христианской педагогикой, всегда отделявшими грех и зло от человека. Кроме того, оба противоборствующих лагеря не считали нужным задаваться вопросом о мотивах поведения носителей зла (и опять-таки такой подход становился нормой в деле воспитания последователей).
Характерно, что московское понимание целей и идеала воспитания принципиально отличалось от западноевропейского. На Западе еще в эпоху Возрождения и Реформации начали складываться основы культуры современности – культуры модернити. Эта культура, отталкиваясь от иудейско-христианской эсхатологии, четко сформулировала идею прогресса (противную традиционализму): развитие идет от простого к сложному, от недифференцированного к дифференцированному, от худшего к лучшему. Титаны Ренессанса, идеологи Реформации, а потом и Просвещения, утверждали, что сама принадлежность к человеческому роду наделяет индивида всей полнотой способностей и прав, независимо от его социальной, национальной или конфессиональной характеристики.
Западноевропейские педагоги – апологеты идеи свободы человека и сторонники гуманистических ценностей – опирались, как Федор Курицын и Феодосий Косой в Московии, на евангельский постулат, относивший решение вопроса о греховном или добродетельном поведении к компетенции индивида. Однако на стороне западноевропейских антропоцентристов оказался не только авторитет Священного писания, но и сама культурная история Запада. На Руси же, естественно сложившийся тип культуры и социальности сдерживал эмансипацию личности и не позволял ей руководствоваться добровольно избранными принципами поведения. Властно-собственнические отношения снимали с индивида ответственность за собственные поступки, возлагая ее на вышестоящих лиц. Как следствие, в такой культурной среде не могла расцвести философско-педагогическая мысль, строившаяся на признании за человеком права на свободу выбора, отрицающая авторитарный идеал «человека воспитанного».
Тем не менее, в Московском царстве XVII в. появились личности, руководствовавшиеся непривычными для Руси культурными образцами. С полным основанием инакомыслящими можно назвать князя И. Хворостинина, подьячего Посольского приказа Гр. Котошихина, славянского мыслителя Ю. Крижанича. Их взгляды нельзя считать идентичными, а личные судьбы – схожими. Но всех перечисленных объединяло критическое отношение к отечественным порядкам, восходившее к сравнительному анализу московской действительности с западной жизнью.
Наличие явного влияния на «диссидентов» XVII в. западной культуры создает соблазн объяснить начавшуюся аксиологическую переструктуризацию отечественного общественного (педагогического в том числе) сознания исключительно западным влиянием. Не отрицая большого значения данного фактора, мы, тем не менее, должны заметить, что существовали и внутренние причины нравственного и педагогического порядка, обусловливавшие этот процесс. Речь идет о возникшей, по крайней мере у части общества, потребности в «исправе» государственных и нравственных устоев, порушенных в ходе Смуты начала XVII в. Среди русских людей тогда рождалась идея морального очищения жизни «от греховных обычаев и привычек» [2, с. 466]. Ощущавшаяся потребность породила религиозную реформу, которая, как и всякое реформистское движение, меняла отношение к личности. «Сражающийся реформатор всегда предстает как выделенный из общества индивид», – справедливо пишет современный исследователь той эпохи [Там же, с. 467]. К тому же религиозная реформа ставила перед человеком проблему выбора. Перед ним, пожалуй, впервые с 988 г. вставала духовная и культурная альтернатива. В результате личность становилась предметом культурной рефлексии, а ее нравственное воспитание – важной темой сочинений XVII века. Параллельно менялись формы самоопределения личности. Ранее воспитание и самовоспитание в Московской Руси концептуально строилось на трактовке человеческого бытия как эха прошедшего. В XVII в. самоопределение личности все чаще начинало осуществляться через соотнесение индивида не со священными образцами, а с «изображениями и описаниями других людей в их земном существовании» [7, с. 381]. Так что новые этико-педагогические ориентиры русских людей инициировались не одной лишь встречей с Западом, но были и результатом естественного и закономерного самоизменения российского общества.
Выскажем и еще одну, на первый взгляд, парадоксальную мысль. Авторитарный идеал воспитания создавал все же возможность для появления новых элементов в нравственном и педагогическом сознании, т.е. воспитатель, формировавший у своих воспитанников убежденность в ответственности главы каждой семьи и Отец всех «детей» – монарха – за все, что происходит в зоне их ответственности, невольно ориентировал их на выход за рамки традиционной культуры. Ведь эта ответственность предполагает не только консервативную стабильность (одну из ценностей традиционализма), но и поиск средств улучшения жизненного устройства. Тем самым создавалась возможность для трансформации авторитарного идеала воспитания в идеал, названный А.С. Ахиезером, утилитаризмом. Его отличало перемещение центра тяжести человеческих ценностей от характерного для социоцентризма желания «максимально раствориться в космической живой стихии», к стремлению противостоять ей, высвободиться «из слепого подчинения ритуалу, из-под авторитаризма накопленной культуры» [1, с. 157]. По сути, данный идеал сочетал в себе некритичность к целям, характерную для традиционного авторитарного идеала, и критическое отношение к средствам обеспечения «общего блага». Тем самым оставался один шаг до появления в России антропоцентристского идеала воспитания, предполагающего личную инициативу при достижении целей.
Таким образом, на протяжении IX–XVII вв. сохранялся традиционный характер российского общества, что проявлялось и в передаче от поколения к поколению социоцентристского идеала воспитания, возводившего на вершину ценностной пирамиды интересы социальной целостности (общины, рода, коллектива, государства). Социоцентризм воспроизводился благодаря неизменности социальных отношений (непосредственно личностных, властно-собственнических), которые кристаллизовались в культуре, транслировавшейся посредством воспитания. Воспитание ориентировалось на две версии социоцентристского идеала: общинного (соборного) и авторитарного. Четвертое. К исходу XVII в. доминирующее положение авторитарного идеала воспитания было поставлено под угрозу появлением в России ростков антропоцентристской субкультуры, которая не только «заносилась» на местную почву с Запада, но возникала путем самопорождения в недрах традиционной русской культуры.
Список литературы Между социоцентризмом и антропоцентризмом: генезис и становление массовых идеалов воспитания в традиционном российском обществе
- Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России): В 2 т./под ред. Н.А. Бердяева. Новосибирск: Сибирский хронограф,1997.
- Живов В.М. Религиозная реформа и индивидуальное начало в русской литературе XVII века//Из истории русской культуры. Т.III (XVII-начало XVIII века). 2-е изд. М., 2000. С.460-485.
- Ильин В.В., Ахиезер А.С. Российская цивилизация: содержание, границы, возможности. М.: Изд-во МГУ, 2000. -304 с.
- Клибанов А.И. Духовная культура средневековой. М.: Аспект Пресс,1996.
- Ключевский В.О. Два воспитания//Русская мысль: лит.-полит. издание. 1893. №3. С.80-99.
- Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М.: РОССПЭН, 1998.
- Плюханова М.Б. О национальных средствах самоопределения личности: самосакрализация, самосожжение, плавание на корабле//Из истории русской культуры. Т. III. (XVII-начало XVIII века). 2-е изд. М., 2000. С.380-459.
- Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн./отв. ред. И.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриев. М.: Мысль,1988.
- Стариков Е.Н. Общество-казарма от фараонов до наших дней/Е.Н. Стариков. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1996.
- Степанов А. Геостратегические особенности формирования российского военно-государственного общества//Россия ХХI. 1996. № 9-10. С.69-94.
- Успенский Б.А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен//Художественный язык средневековья. М.: Наука, 1982.
- Юрганов А. Бог и раб Божий, государь и холоп: «самовластие» средневекового человека/А. Юрганов//Россия XXI. 1998. №7-8. С.70-114.